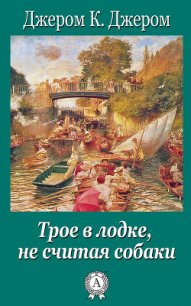Трое в лодке, не считая собаки. Трое на четырех колесах (сборник) - - (библиотека электронных книг .txt) 📗
Будет ли так и впредь? Всегда ли дешевые мелочи вчерашнего дня будут ценными сокровищами сегодняшнего? Будут ли наши теперешние столовые тарелки красоваться вокруг каминов великих мира в 2000 с лишним году? А белые чашки с золотым ободком и прекрасным золотым цветком внутри (неизвестной разновидности), которые наши Сары и Джейн бьют теперь в простоте сердечной, – не будут они тщательно склеены и убраны на полочку, где с них станет стирать пыль сама хозяйка дома?
Возьмем, например, фарфоровую собачку, украшающую спальню моих меблированных комнат. Собачка эта белая. Глаза у нее голубые. Носик окрашен в нужный красный оттенок, с черными крапинками. Голова ее мучительно выпрямлена и выражает приветливость, граничащую с идиотизмом. Лично я не восхищаюсь ею. С точки зрения искусства могу сказать, что она раздражает меня. Легкомысленные знакомые смеются над нею, и даже сама моя хозяйка не выказывает к ней восхищения и извиняет ее присутствие тем, что это подарок ее тетушки.
Но через двести лет более чем возможно, что где-нибудь да откопают эту собачку, лишившуюся ног и с отломанным хвостом, продадут ее за старинный фарфор и поместят в стеклянной горке. И проходящие мимо станут восхищаться ею. Будут поражаться диковинной глубиной окраски носа и размышлять о степени красоты, которой, вне сомнения, обладал утраченный кончик хвоста.
Мы в наше время не видим красоты этой собачки. Мы чрезмерно освоились с нею. Это как солнечный закат и звезды: мы не подавлены их красотой, потому что они представляют обычное для нас зрелище. Точно так же и эта фарфоровая собачка. В 2288 году над ней будут захлебываться от восторга. Производство таких собачек сделается утраченным искусством. Наши потомки будут ломать над ним голову и удивляться нашему умению. О нас будут упоминать с нежностью, величая нас «великими старыми мастерами, которые процветали в XIX веке и производили фарфоровых собачек».
Вышитая в пансионе старшей дочерью «закладка» будет называться «шитьем эпохи Виктории» {34} и продаваться по недоступной цене. Разыщут потрескавшиеся и выщербленные белые с синим кружки нынешних постоялых дворов и будут продавать их на вес золота, и богачи будут употреблять их для крюшона; а приезжие из Японии скупят все избежавшие разрушения «подарки из Рэмсгета» и «сувениры из Маргета» и увезут их в Иеддо {35} в качестве старинных английских редкостей.
В эту минуту Гаррис бросил весла, встал с места, лег на спину и задрал ноги на воздух. Монморанси взвыл и перекувыркнулся, а верхняя корзина подпрыгнула, и все, что было в ней, выскочило наружу.
Я несколько удивился, однако не вышел из себя. Я сказал добродушно:
– Эй! С чего это?..
– С чего это? Да…
Нет, поразмыслив, я не стану повторять слов Гарриса.
Допускаю, я был виноват; но ничто не может извинить резкости оборотов и грубости выражений, в особенности у человека, получившего образцовое воспитание, какое, я знаю, получил Гаррис. Я думал о другом и, что весьма понятно, позабыл, что сижу на руле, вследствие чего мы значительно перепутались с буксирной линией. Трудно было сказать в данную минуту, что такое мы и что такое миддлсекский берег реки, но со временем мы это выяснили и вышли из затруднения.
Как бы то ни было, Гаррис объявил, что с него пока достаточно и что пора и мне взяться за работу; итак, я повел лодку по буксирной линии, мимо Хэмптон-Корта. Что за милая древняя стена тянется здесь вдоль реки! Всякий раз идя мимо, я получаю удовольствие. Такая веселая, приветливая старая стена; какая вышла бы из нее прелестная картина! Там пятнышко лишая, здесь обросло мхом, там высунулась молодая виноградная плеть, заглядывая на то, что творится на оживленной реке, а немного дальше вьется степенный старый плющ. На каждых десяти ярдах этой стены можно найти пятьдесят различных теней, красок и оттенков. Если бы я только умел рисовать и знал, как обращаться с красками, я уверен, что сделал бы из этой старой жизни очаровательный этюд. Иногда мне кажется, что мне понравилось бы жить в Хэмптон-Корте. Здесь так мирно и тихо, и так бывает отрадно слоняться по милым старым местам рано поутру, когда вокруг еще немного народа.
Но нет, в сущности говоря, мне бы это, вероятно, не понравилось, когда бы дошло до дела. Такая здесь, должно быть, зловещая, давящая скука по вечерам, – когда лампа бросает жуткие тени на дубовые шпалеры стен, а вдоль холодных каменных коридоров звучат отголоски отдаленных шагов, которые то подходят ближе, то замирают вдали, после чего воцаряется мертвенное молчание, за исключением биения вашего собственного сердца.
Все мы, мужчины и женщины, – создания солнца. Мы любим свет и жизнь. Вот почему мы теснимся в городах, а деревня с каждым годом пустеет все более и более. Днем, при свете солнца, когда повсюду живет и трудится Природа, нам вполне по душе склоны холмов и дремучие леса; но ночью, когда Мать-Земля уляжется в постель, оставив нас бодрствующими, ах! свет кажется таким одиноким, и нам становится страшно, как детям в затихшем доме. Тогда мы сидим и плачем и тоскуем по освещенным газом улицам, по звуку человеческого голоса и ответному биению человеческой жизни. Мы чувствуем себя такими беспомощными и маленькими в великом безмолвии, когда ночной ветер шелестит в темных деревьях. Так много призраков витает вокруг, и так становится грустно от их безмолвных вздохов. Давайте лучше соберемся в больших городах и зажжем большие увеселительные костры из миллиона газовых рожков, и будем петь и кричать все сразу, и чувствовать себя молодцами.
Гаррис спросил меня, бывал ли я когда-нибудь в лабиринте Хэмптон-Корта. Сам он однажды пошел, чтобы показать дорогу другому. Он изучил его на плане и нашел его до смешного простым – едва стоящим тех двух пенсов, которые берут за вход. Гаррис говорит, что, по его мнению, этот план предназначен дурачить публику, ибо он ничуточки не похож на самый лабиринт, а только сбивает с толку. Показывал его Гаррис приезжему родственнику из провинции. Гаррис сказал ему:
– Мы зайдем туда, просто чтобы вы могли сказать, что побывали в нем, но штука совсем простая. Называть ее лабиринтом нелепо. Надо только каждый раз сворачивать направо. Обойдем его в каких-нибудь десять минут, а потом пойдем завтракать.
Вскоре после того, как они вошли, им встретилось несколько человек, сказавших, что они уж три четверти часа здесь и находят, что этого достаточно. Гаррис сказал им, что они могут, если хотят, идти за ним, он сейчас только вошел, обойдет вокруг и выйдет вон. Они сказали, что он очень добр, и пошли следом за ним. По пути они продолжали подбирать разных лиц, желавших покончить с прогулкой, пока не поглотили всей находившейся в лабиринте публики. Многие, окончательно потерявшие надежду когда-либо выйти из лабиринта и снова увидеть дом и семью, воспрянули духом при виде Гарриса с его компанией и присоединились к шествию, благословляя его. Гаррис полагает, что всего набралось человек двадцать; а одна женщина с ребенком, пробывшая там все утро, настояла на том, чтобы он подал ей руку, из страха потерять его.
Гаррис все продолжал сворачивать вправо, но идти приходилось долго, и его родственник высказал предположение, что лабиринт очень велик.
– О, один из величайших в Европе, – подтвердил Гаррис.
– Должно быть, что так, – заметил родственник, – потому что мы прошли уже добрых две мили.
Гаррису и самому это начинало казаться странным, но он все крепился до тех пор, пока они не наткнулись на половину маленькой булочки: родственник Гарриса божился, что видел ее уже на земле семь минут назад. «О, это невозможно!» Но женщина с ребенком возразила: «Вовсе нет!», так как она сама взяла хлеб для ребенка и бросила его здесь, как раз перед встречей с Гаррисом. Она добавила также, что желала бы никогда не встречаться с Гаррисом, и выразила мнение, что он обманщик. Это взбесило Гарриса, он достал свой план и изложил свою теорию.