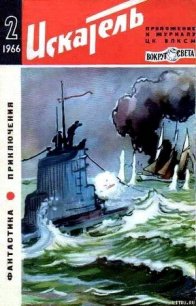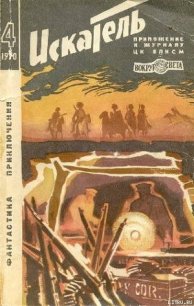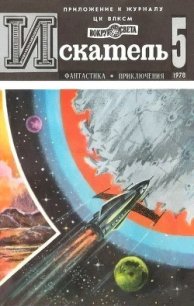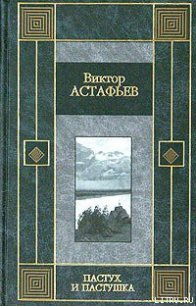Искатель. 1966. Выпуск №5 - Смирнов Виктор Васильевич (читать книги полностью без сокращений txt) 📗
«Шалый ты все-таки парень. Ох и шалый!.. Помяни мое слово — не усидишь ты в здешних местах».
«Это почему?» — не оборачиваясь, спросил я.
«Да так уж, видно, на роду тебе написано».
«Говорят, что тот, кто возле тебя покрутится, обязательно далеко уходит».
«То верно, — согласилась Чепуриха, и в голосе у нее прозвучала словно бы гордость и в то же время горечь. — Но только ты одно прикинь по себе — почему они сюда приходили? — Я сообразил не сразу, и она нетерпеливо пояснила: — А как думаешь, к тетке с такой славой, как у меня, придет человек степенный, распорядительный, у которого в голове все дома и все на местах? — Я молчал, и она уже рассерженно продолжала: — Ко мне только такой и придет, который уже в душе своей ни черта, ни людей не боится, которому уже все надоело. Душа у него наболит, намается, хочется ему от той проклятой жизни, которая ему крылья режет, сбежать, а еще не может. И не может не потому, что слабый, — такие слабыми не бывают, а потому, что не знает, как сбежать и куда сбежать. Вот и идет ко мне. Надеется, что я его с нечистой силой сведу и она ему все подрасскажет. Вы ж народ такой. Хоть и слывете «двойными казаками», а тоже на рожон не больно лезете. Все наверняка хочется, чтоб не прогадать. А того, дураки, не понимаете, что настоящая свобода потому и свобода, что она без расчета вашего паскудного, без хаты, без скотины, без жирной жинки под боком, без своей земли за перелазом».
Долго она говорила, а вернее сказать, ругалась, и чувствовал я — правильно говорит. Человек, которому все в жизни нравится, ни на Чертов бугор не вылезет звезды считать, ни тем более в Чепурихину балку не скатится.
Это уж когда человек внутренне надорвется и остановится, чтобы осмотреться, самого себя послушать и в самом себе разобраться, — тогда он и на бугор полезет, и в балку покатится. А уж там, за той внутренней чертой, ему и в самом деле уже не многое страшно, потому что он уже сам все знает: и как родные-соседи о нем говорят, и как здороваются с опаской, и смотрят на него нехорошо. Потому что видят — выкатился человек, как горошина из общего мешка. Сам он уже в мешок не запрыгнет, а поднимать его и обратно заталкивать вроде бы расчета нет: гороха в мешке и так много.
С того вечера стали мы уже подробней толковать, но чаще всего просто молчали.
Очень хорошо было с ней молчать. И опять я понял тех, кто у нее пропадал.
Возле нее я становился как-то чище, крепче, и голова становилась такой ясной и понятливой, что прямо удивительно было, как же я до сей поры мог жить такой неинтересной жизнью. Невольно приходили на мысль рассказы бывалых людей — а у нас их хоть пруд пруди, — и хотелось самому распрямиться да попробовать, какова она, настоящая-то жизнишка, на вкус, на цвет и на излом.
Чепуриха меня уже не дичилась. Но того первого, чистого порыва не случалось, да и улыбчивого света в ее глазах я не видел. А без него, мне казалось, спрашивать о ее потаенном — дело гиблое. Может быть, еще и потому, что понимал — должен я благодарить ее за то, что открывает она своей женской, а не бабьей душой какую-то большую и светлую правду. А какую именно, толком не понимал.
Но одно твердо знал — все, кто бывал у нее, все были перед ней чисты. И она перед ними и перед людьми тоже чистая. Потому что не баба таким требовалась, а совсем иное. Сильное, светлое и обязательно чистое: люди-то от грязи, от недуги бежали, и если б они и тут то же встретили — они б ушли, потому что бывают в человеческой жизни такие переломные моменты.

Недавно я вычитал, что будто бы человеческий организм, весь, до самой последней клетки, обновляется не то за четыре, не то за семь лет. Точно сейчас я уже не помню, но думаю, что это правильно, и не потому, что это наука доказала, а потому, что сам это постоянно в себе ощущаю. Все вроде идет нормально, правильно, а вдруг закрутит, заноет — и все хочется переделать.
Слабые в таком разе начинают пить, а кто посильнее — тот в дорогу собирается и в иной раз всю судьбу меняет. А бывают и сильные, да трусливые. Те помаются, зло на других сорвут и успокаиваются. В то лето, наверное, и во мне шло такое обновление клеток, и они, молодые, чуткие, с острой памятью, мытарили меня, звали к новой жизни.
Видно, и Чепуриха то чуяла, потому что в редкие наши разговоры она никогда меня не отговаривала, а только вздыхала.
«Я б далеко ушла, на самый край света, за новой жизнью, да боюсь».
«А чего? Ты ж вроде не из пугливых. Живешь одна, даже злыдней не боишься».
«Смерти я боюсь, вот чего. Тут уж не верю, а знаю: уйду отсюда — и скоро помру. Потому и держусь».
А почему — опять не сказала.
Уже перед осенью сидели мы на берегу, слушали, как море глину перемывает, и Чепуриха вдруг разговорилась.
«Откуда я знаю, почему рыба придет? А от земли… Земля мне рассказывает. — Она помолчала и убросила ракушку жемчужницы в воду. Ракушка скользнула по волне, зачерпнула краешком и пошла на дно. — Заметил — без звука утонула? Вот так и мне земля рассказывает — без всякого звука. Тишиной».
Должно быть, у меня был глуповатый вид, потому что Чепуриха рассмеялась — звонко и неудержимо. И тут в ее глазах мелькнуло то самое выражение простоты, открытости и чистоты, которое я так долго ждал.
«Думаешь, сумасшедшая? И то верно — на слово в такое не поверишь. Пойдем, сам послушаешь».
Она вскочила с прогретого за день песка и, не оглядываясь, пошла к балке. По тропинке мы поднялись чуть выше ее халупы, потом спустились на самое дно балки и подошли к яме.
Таких ям в наших местах много. Из них хозяйки берут глину на подмазку саманных домов, на затирание земляных полов. Эта яма была большая, просторная — видно, глину из нее брали давно. Чепуриха остановилась и взяла меня за руку.
«Как прихожу сюда за глиной, так притаюсь и жду. Земля поначалу молчит, а уж потом, как прислушаюсь, из нее поднимается шум. Ровный, спорый, словно из большой морской раковины. Понимаешь, шумит тишина. Шумит и шумит. А в иные дни бывает так, что шум усиливается, и получается гул. И — щелчок. Далекий такой, неверный щелчок, а потом — снова гул. Гудит, гудит… И все в тебе сдавливается, сердце замирает, а на душе становится не то страшно, не то прекрасно. Вся ты словно уже не тут живешь. Мысли какие-то странные, точно молодые, радостные, но вся ты не то что старой становишься, а умной очень. До самого последнего лоскутика все понимаешь. Потом гул затихает, сердце отпускает, и тишина опять начинает шуметь. Шумит, шумит… Как в раковине. И словно бы та раковина в тебе самой. Нет, ты сам послушай. Такому поверить на слово невозможно».
Мы залезли в яму, сели на корточки и притулились спинами и затылками к мягкой прохладной глине. Медленно умирали звуки, которые мы принесли с собой, и постепенно приходила полная, совершенная тишина. Она жила несколько минут, а может быть, и секунд, потому что время здесь, как, должно быть, в межпланетных полетах, двигалось по иным законам.
Потом из тишины стал прорезываться шум. Не гул, а именно шум. Потому что гул — это ровный звук, на одной ноте, а шум — это разноголосица, точно где-то глубоко под землей, а может, в стороне работают машины, или вразнобой бьют волны, или шумит далекий базар.
Мы долго прислушивались, и я, помню, стал даже различать в этом общем шуме как бы отдельные гулы. Сердце стало замирать, и от этого замирания на душе и в самом деле становилось не то страшно, не то прекрасно. Опять пришли мысли — очень умные, прозорливые, но какие именно — сказать было трудно: не хватало во мне чего-то. Это уж теперь я понимаю — не хватало знаний. Ведь чтобы понять собственные мысли, нужно сравнить их с чем-нибудь.
Когда мы вышли в балку, я и в самом деле чувствовал себя помолодевшим — тело стало легким, звенящим, упругим. И умным, мудрым. Словно передо мной открылось то, что недоступно другим.