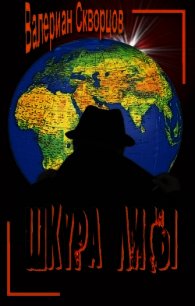Годы, тропы, ружье - Правдухин Валериан Павлович (читать книги онлайн без .txt) 📗
Не дожидаясь приезда братьев на лето, отец решил испытать ружье на настоящей охоте. Как только сошел снег с полей и подсохли дороги, мы поехали в степь за стрепетами. Отец ехал с псаломщиком Ефимом, а я был отряжен кучером на другую телегу, в помощники Хрулеву. Берданка была отдана в распоряжение Ефиму; дьякон ехал на охоту со своей шомполкой.
Ехали мы километров за двадцать, а то и больше, от поселка. Кругом — необозримые степи. Чем дальше в глубь степей, тем ковыли становились живописнее. Погода стояла чудесная: по-весеннему теплый, солнечный день ласкал нас, как мать своего ребенка. Зеленые полосы молодого ковыля коврами бежали к голубому небу. А рядом седые старые пряди его в задумчивой мудрости тихо шелестели под ветерком, склоняясь перед буйством весеннего расцвета степей. Жаворонки под солнцем, как расплавленные слитки золота, мягко вызванивали в небе страстные трели. Степные кречетки, по-местному «таргаки», большими стаями с шумом перелетали с места на место. Тиркушки-«чиктукпаки» шныряли в воздухе с легкостью ласточек и звонко чувикали под солнцем. Свистели красиво и протяжно по степным долам кроншнепы, жалобно стонали хохлатые пигалицы. По степным озеркам, как пчелы в улье, гудели, крякали утки.
На первом озерке мы с Ефимом поползли к ним. Из-за старого бурьяна легко подобрались вплотную к большой стае кряковых уток. Ефим уже стал целить, как вдруг его обуял хохот: селезни разодрались из-за утки, и матерой самец, как сердитый дед, трепал соперника за его блестящий хохол.
Отец долго пенял Ефиму за его смешливость, из-за которой он не успел выстрелить по стае.
Километрах в пятнадцати от поселка показались первые стрепета. Мы издали услышали токованье самцов. Скоро со всех сторон понеслось мягкое и своеобразное мелодичное: тррыть, тррыть, тррыть!.. Петухи, переодевшись в брачный наряд, выбрав оголенный пригорок или желтую насыпь у норы суслика, распустив круглые свои крылья и хвост, распушив черное ожерелье на шее, пели несложную, но волнующую свадебную песню…
Началась охота. Тарантасы медленно поползли в разные стороны. Дьякон суетливо завозился со своей шомполкой, а я стал направлять лошадь к ближайшему стрепету. Он подпустил нас близко: шагов на тридцать пять. Прямо из тележки пустил в него Хрулев первый заряд. Но стрепет не улетел, он только перестал прыгать, посмотрел на нас удивленно и убежал с желтого пригорка в ковыль.
— Подбил, подбил, — заорал Хрулев и кинулся за птицей.
Но стрепет легко вспорхнул, часто-часто трепеща крыльями, так что почти не видно было их движений, и красивым веретеном понесся вдаль по голубеющему, прозрачному воздуху.
— Ей-богу, подбил! Ты видел, как из него перья посыпались?
Я не видел посыпавшихся перьев, но я сам так же горячо переживал первую неудачу и, конечно, подтвердил, что стрепет ранен.
Стрепетов по степи была масса. Искать их не приходилось. От одного мы направлялись к другому. Теперь Хрулев велел мне подъезжать к птице еще ближе. Стрепет подпустил нас шагов на двадцать, но тут же сбежал с точка и, пригнув аккуратную головку, потянулся по ковылю и так плотно залег в нем, что его совсем не стало видно. Долго стояли мы на одном месте, стараясь усмотреть его в траве. Дьякон выходил из себя: то и дело ему казалось, что он видит стрепета, он прицеливался, но потом решал, что это не птица. Наконец охотник не выдержал, выпрыгнул из тарантаса и двинулся вперед. Стрепет вырвался у него из-под ног и с волнующим треском полетел вперед. Дьякон растерянно замахал руками, долго озабоченно смотрел ему вслед и, выбранившись, вернулся ко мне. Он раскраснелся, как после бани, курил папиросу за папиросой, ругался вовсю.
Тащимся дальше. Из-под лошади вспархивает самка. Лошадь, вскинув головой, останавливается от неожиданности, а стрепет в тридцати шагах мягко опускается на землю и, тотчас же скрывается в ковыле. Таращим глаза, — птица не показывается. Опять Хрулев спрыгивает с возка; стрепет вырывается позади охотника и несется вдаль, выбросив чуть не на голову дьякона жидкую белую струю. Опять ругань и плевки в сторону птицы. У самых копыт лошади находим пяток свежих ярко-зеленых, с желтыми крапинками яиц, величиною поменьше куриных. Хрулев забирает их на варево.
После пяти-шести промахов дьякон решает стрелять с приклада. Он шагает теперь позади тарантаса. Я останавливаю лошадь, охотник кладет ствол ружья на обод заднего колеса и после длительного прицела бахает по стрепету, удивленно взирающему на нас с бугорка. Птица подскакивает, летит несколько метров вперед и турманом валится на землю, теряя перья.
Первая добыча в руках. Я бросаю лошадь и несусь навстречу засиявшему от удачи Хрулеву. Какое красивое оперение у птицы! Белое брюшко, светло-коричневатая спинка, испещренная мелкими, как рисунки мороза, черными узорами, стройная шея с черным ожерельем и белым перехватом, три черных маховых пера на крыльях, зеленоватые ноги, бледно-розовый носик, и весь он, подобранный, дикий, стройный красавец, взволновал меня, как будто находка драгоценного, камня, волшебного корня жизни.
В полдень мы приехали на стан, к степному колодцу, где нас с нетерпением ждали наши спутники. Они оказались удачливее нашего: семь стрепетов лежали у них под тарантасом. Дьякон вскипел:
Еще бы, с таким роскошным ружьем с Ижевского-то завода, и дурак набьет! А если моя мешалка только дичь портит, не держит на месте? Перья летят…
И птицу за собой уносят, — смеется Ефим.
То-то, я гляжу, по степи, — начал серьезно отец, — дичь вся перепорчена. И кто это, думаю, портит ее? А все же лучше было бы, отец дьякон, если бы ты нам с Ефимом молебен Николаю-чудотворцу заказал. Кто знает, может, и в самом деле чудо бы случилось, и ты бы убил. А этого-то что же, вам лошадь задавила?
Отец долго подтрунивал над Хрулевым, а Ефим в тон подхохатывал ему.
Два дня мы колесили по степи, гоняясь за стрепетами. Утром при выезде со стана зоркий Хрулев своими калмыцкими глазами заприметил в ковыле дрофу-дудака. Ефим перешел на нашу подводу; отец остался позади. Дрофа, увидав нас вблизи, пригнула седоватую голову, быстро потянула по ковылю, мягко покачиваясь на ходу, и скрылась в густой траве, забежав за небольшой мар. Залегла. Полупудовая туша сразу исчезла из глаз, точно провалилась. Мы долго кружили возле этого места, — птицы как будто и не было. Всех нас трясла лихорадка: черт возьми, ведь вот же она здесь, до мара не больше двадцати пяти шагов. Наконец я разглядел в траве рыжую спину птицы, еле заметно возвышавшуюся над землей меж прядями седого ковыля. Дергаю Ефима за рукав, указываю ему глазами. Ефим вскидывает ружье к плечу. Увидел и он.
Стой! С ума спятил? Это же камень! Не стреляй! — дергает Ефима за руку Хрулев.
Не мешай, черт тебя возьми! — вышел из себя добродушный охотник, пытаясь снова прицелиться в дудака.
Постой! Вместе! Где, где?
И дьякон опять хватает Ефима за рукав.
Дудаку наскучило слушать горячую перебранку на таком близком расстоянии, — он вскочил на ноги и, неуклюже подпрыгнув раза три, взмахнул громадными крыльями — и полетел. Ефим выстрелил не целясь — и, конечно, мимо. Птица тяжело замахала и скрылась из глаз в мареве степи.
Подскакал отец:
— В чем дело?
Сдержанный обычно Ефим, как курун, кидается на Хрулева с кулаками:
— Ты что ж, зарраза те убей, что ты сделал? Я б его на месте пришил! Ах, язвай те в душу-то, серая рожа, охотник слепошарый!
Дьякон пытается защищаться, но мы дружно набрасываемся на него. Он угрюмо замолкает, жадно раскуривая две папиросы зараз. Через полчаса тяжелое настроение разряжается. Начинаем со смехом вспоминать неудачу. Хрулев отходит и хохочет сам над собой:
— Глаза заволокло, как в горячке!
Едем вместе. Здесь я мог наблюдать за стрельбой наших компаньонов. Ефим стрелял удачнее дьякона и обычно на два выстрела убивал одного стрепета. Но влет и он не умел стрелять, и отец сплевывал от досады, когда птица без выстрела улетала из-под ног охотника.