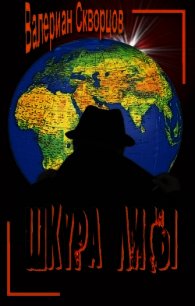Годы, тропы, ружье - Правдухин Валериан Павлович (читать книги онлайн без .txt) 📗
Первый порог позади. Иван Миронович не перестает креститься и шептать молитву. Издали замечаем новый, более страшный порог: белую стену водяных валов, взбивающих кружевную пену. Теперь Иван Миронович проявляет несвойственную ему решительность и успевает причалить к берегу.
Не поеду. Убей меня на месте, не поеду. Я себе не враг и жить хочу. У меня семейство.
Ну, в таком случае я еду один.
А я куда денусь? — кричит зло на меня мой спутник. — Меня ты в землю, што ль, закопаешь аль в кадушке домой, как сохатого, доставишь?
Сам чувствую, что не решусь бросить его одного в тайге. Молчу. Что же делать? Пока что надо выпить чаю. Насупились оба, как враги. Но знаем хорошо, что хотим помочь друг другу не меньше, чем каждый себе. И вдруг мне приходит счастливая и неожиданная мысль: спустить лодку через порог на бечеве. Иван Миронович противится недолго: иного исхода нет. Привязываем к лодке веревку, грузим на себя ружья, хлеб, одежду и отталкиваем наше суденышко от берега на волю волн. Лодка, как птица, выпущенная из клетки, нерешительно качнулась, вильнула носом, почуяв стремнину, и сразу рванулась вперед, понеслась, точно детский бумажный кораблик. Бегу за ней, умеряя ее веселый, беспечный пляс. Она скачет меж камней, как заяц, преследуемый хищником, не задерживаясь ни на секунду. Но какая удача: берег против порога оказался довольно удобным для прохода. А что бы мы стали делать, если бы на пути оказались каменные крутые глыбы? Я горжусь своею выдумкой и подтруниваю над вспотевшим от бега Иваном Мироновичем:
— И зачем мы, дураки, вылезли из лодки? Как бы хорошо было попрыгать по волнам! В городах за такое удовольствие деньги платят. Нет, смотри, как она резвится…
Иван Миронович не сердится. Я даже вижу, как он старается запрятать довольную улыбку в усы, серьезно покрякивая. Он доволен не меньше меня моей удачной выдумкой. Впоследствии нам никто не хотел верить, что мы сумели спуститься по Тагулу на лодке. У Ивана Мироновича позднее даже родилось честолюбие: он просил меня не говорить, что мы вылезали на порогах из лодки. Обычно все промышленники спускаются по Тагулу на плотах. Макс рассказывал мне, как они и с плотом застряли в камнях, когда возвращались сверху с Филатычем. Плот крепко врезался в подводные скалы. Стоял густой туман над рекой, в пяти шагах ничего не было видно. Они начали было уже разбирать свой плот, надеясь остатки его освободить из каменного плена, как вдруг совсем рядом грохнул ружейный выстрел. Снизу по Тагулу поднимался Богатырь: так звали Лабутина за его огромный рост и силу. Он помог им сняться с порогов.
К вечеру прощаемся с последним порогом. Я с искренним сожалением, а мой спутник с такою же искренней неприязнью. Он так рад, что не хочет даже останавливаться, забыв свою мечту покараулить зверя. Мы мчимся теперь без задержек. До боли жаль мелькающих диких взмахов земли, каменного хаоса и буйной таежной растительности. А тайга распахивает все шире и шире свою зеленую шубу. Горы с величавым и ласковым удивлением наблюдают наш бег. Тяжелые камни и скалы дышат нам вслед. Солнце щедрыми пригоршнями разбрасывает ослепляющий свет во все уголки. И кажется в сладкой тоске, что ты бежишь от древней своей родины, покидаешь естественную свою колыбель. Уже шевелятся внутри тебя, пробуждаются от сна, царапая лапами, зверушки разных ненужных чувств, порожденных городом, скуки, пустого ненавистничества, мелких изломов души, усталости от безделья. Какое неизъяснимое наслаждение быть каждую секунду в плену у природы, вставать с солнцем, засыпать с солнцем, дышать в ритм со всем миром, не отрываясь от него ни на минуту! Ощущать, как горячий воздух — живое дыхание солнца — вливается в тебя, тревожит радостными прикосновениями каждую твою клеточку тела.
Последняя ночевка у Холодного плеса. Кровавый закат над горами, розоватые просветы в небе, убегающие в бесконечность. Тихая ночь, опустившаяся над нами, как мать над колыбелью ребенка. Очарование незаметного одиночества. Мысли, бегущие тихими, ровными волнами, как течение реки, как камыш, ласкаемый ночным неслышным ветром. Дымок костра, барашковые облака на потухающем небе, заснувшие деревья, — какая в этом во всем незыблемость покоя и воли, какое ясное физическое ощущение вечности, бессмертия жизни!..
На заре проезжаем величавый Бычий увал. Никогда не уйти из моих глаз этому широкому утру, опьяневшему от солнца! Мощные взмахи земли, огромные зеленые ковры лесов, распластанные по складкам гор, вольное полотно неба, нежное, голубое, и эта живая, бешеная водяная гора, мчащая нас вниз. Крики взматеревших крохалей, первое лето увидавших это вакхическое солнце и этот дикий, неуемный мир, призвавший их к жизни! Выходим у залива на берег. На траве, еще не сбросившей с себя ночной росы, медвежьи следы. Зверь прошел здесь сегодня утром. Я вкладываю в осадины от его лап на мягком иле свою ладонь, чтобы измерить величину его ступни, и содрогаюсь: мне кажется, что в меня вливается теплое медвежье дыхание…
А над всем этим диким величием — далеко вверху, в небе — черные точки хищников, озирающих широкую тайгу… Словно заживающие душевные раны, давно мелькнувшие ласки первой- любви, неизлечимой сладкой отравой оседают во мне картины последнего утра в Саянах.
Восьмого июля мы были в Большой Речке. Здесь меня ожидали с плотом профессора, чтобы двинуться вниз по Тагулу и Бирюсе в Тайшет, откуда полтора месяца назад мы вышли в Саяны.
ЗАКОЛДОВАННЫЙ ТОК

1
Неделю скитаюсь с ружьем по Устюженскому уезду. Охота из шалашей на полевиков [30] мало интересна, однообразна и неподвижна. Каждое утро осаждаю лесного деда Корнея настойчивыми просьбами сводить меня наконец в Охотничий бор — на нетронутые мошниковые тока. Старик сам распалил во мне это желание, рассказав, как там уже с вечера «самосильно» точат десятки мошников и как помещик Толстой убивал по пяти глухарей за утро.
Дед каждый вечер обещает пойти туда со мною, но со дня на день под разными предлогами упорно откладывает наш поход.
— Годов десять не хаживал я туда. Опасно! Болотина там очень, уемиста. Весной прямиком не пройти, а в обход и тропы, поди, не найти мне теперь.
Меня это сильно раздражало. Мы уже выполнили нашу деловую программу: побывали на Стеклострое, осмотрели родину сороковки — Покровский завод.
Мне надоело бродить по разбитым токам, где пенья глухарей жди, как столичных гастролеров в глухой провинции, и где они поют так осторожно, что подбираться к ним приходится часами. Но старик упрям: с утра он снова начинает пугать меня своими «романтическими» россказнями и страхами.
— В Охотничий бор никто с тобой не пойдет. Глухое место, нехоженое. Это все едино что заказник: нельзя туда ходить. Кроме меня, туда и дороги никто не знает. Был случай — пошли туда лет тридцать назад два охотника за мошникам, да так и не вернулись: черепки ихние года через три я нашел в вельге у ручья Устники… А ружья так поржавели, что и на кочергу бы их баба не взяла. Вот… Я пять десятков охочусь, а всякий раз кружу на току, как слепая кобыла на молотьбе. Да и ружья-то у меня никакого нет. А чего я без ружья с тобой пойду? Ты не барин. Я тебе не егерь. Приезжай на будущую весну, — ну, тогда, може, и пойду.
Это любезное предложение разъярило меня вконец. Я взял у знакомого комсомольца под залог в десять рублей старую дрянную шомпольную двухстволку, веком равную деду Корнею (а ему уже стукнуло семьдесят лет), и предъявил леснику ультиматум: завтра мы отправляемся в Охотничий бор.
На этот раз дед покорился моей настойчивости, но повел меня снова через Покровский завод.
— С детьми повидаюсь еще разок, а ты глянешь, как американец машиной сороковки делает.
30
На севере охотники тетеревов называют полевиками, глухарей — мошниками.