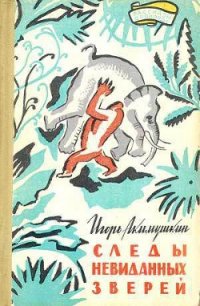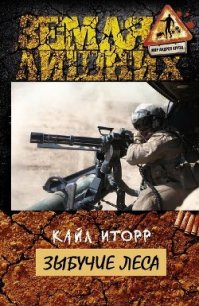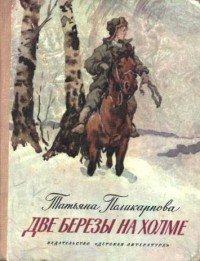В лесах счастливой охоты - Сладков Николай Иванович (бесплатные онлайн книги читаем полные TXT) 📗
А сам пошёл в деревню — щеночка себе доставать.
Щенок ни прятаться не умеет, ни плавать. И непослушный. Вот и буду его учить.
Трясогузкины письма
У калитки в сад прибит почтовый ящик. Ящик самодельный, деревянный, с узкой щелью для писем. Почтовый ящик так долго висел на заборе, что доски его стали серыми и в них завёлся древоточец.
Осенью залетел в сад дятел. Прицепился к ящику, стукнул носом и сразу угадал: внутри древоточина! И у самой щели, в которую опускают письма, выдолбил круглую дырку.
А весной прилетела в сад трясогузка — тоненькая серенькая птичка с длинным хвостиком. Она вспорхнула на почтовый ящик, заглянула одним глазком в дыру, пробитую дятлом, и облюбовала ящик под гнездо.
Трясогузку эту мы прозвали Почтальоном. Не потому, что она поселилась в почтовом ящике, а потому, что она, как настоящий почтальон, стала приносить и опускать в ящик разные бумажки.

Когда же приходил настоящий почтальон и опускал в ящик письмо, перепуганная трясогузка вылетала из ящика и долго бегала по крыше, тревожно попискивая и качая длинным хвостиком. И мы уже знали: тревожится птичка — значит, есть нам письмо.
Скоро вывела наша почтальонша птенцов. Тревог и забот у неё на целый день: и кормить птенцов надо, и от врагов защищать. Стоило теперь почтальону только показаться на улице, как трясогузка уже летела ему навстречу, порхала у самой головы и тревожно пищала. Птичка хорошо узнавала его среди других людей.
Услыхав отчаянный писк трясогузки, мы выбегали навстречу почтальону и брали у него газеты и письма; мы не хотели, чтобы он тревожил птичку.
Птенцы быстро росли. Самые ловкие стали уже выглядывать из щели ящика, крутя носами и жмурясь от солнца. И однажды вся весёлая семейка улетела на широкие, залитые солнцем речные отмели.
А когда пришла осень, в сад опять прилетел бродяга-дятел. Он прицепился к почтовому ящику и носом своим, как долотом, так раздолбил дыру, что в неё можно было просовывать руку.
Я просунул руку в ящик и вынул из ящика все трясогузкины «письма». Были там сухие травинки, обрывки газет, клочки ваты, волосы, фантики от конфет, стружки.
За зиму ящик совсем одряхлел, для писем он уже не годился. Но мы его не выбрасываем: ждём возвращения серенького Почтальона. Ждём, когда он опустит в наш ящик своё первое весеннее письмо.
Новый голосок
Три яичка лежали в гнезде чайки: два неподвижно, а третье шевелилось. Третьему не терпелось, оно даже посвистывало! Будь его воля, оно бы так и выскочило из гнезда и, как колобок, покатилось бы по бережку!
Возилось яичко, возилось и стало тихонько похрустывать. Выкрошилась на тупом конце дырочка. И в дырочку, как в оконце, высунулся птичий нос.
Птичий нос — это и рот. Рот открылся от удивления. Ещё бы: стало вдруг в яйце светло и свежо! Глухие доселе звуки зазвучали властно и громко. Незнакомый мир ворвался в уютное и скрытое жилище птенца. И чайчонок на миг оробел: может, не стоит совать свой нос в этот неведомый мир?
Но солнце грело ласково, глаза привыкли к яркому свету. Качались зелёные травинки, плескали ленивые волны.
Чайчонок упёрся лапками в пол, а головой в потолок, нажал, и скорлупа расселась. Чайчонок так испугался, что громко, во всё горло крикнул: «Мама!»
Так в нашем мире одной чайкой стало больше. В хоре голосов, голосищ и голосишек зазвучал новый голосок. Был он робок и тих, как писк комара. Но он звучал, и его слышали все.

Чайчонок встал на дрожащие ножки, поёрзал шерстинками крыльев и смело шагнул вперёд: вода так вода!
Минует ли он грозных щук и выдр? Или путь его оборвётся на клыках первой же хитрой лисы?
Крылья матери-чайки распластались над ним, как руки, готовые прикрыть от невзгод.
Покатил в жизнь пушистенький колобок.
Приёмыши
Я сидел на озере, задвинув лодку в тростник.
Был полдень — тихий и сонный. По зелёным тростникам лениво ползли золотые солнечные колечки. Как хорошо!
В тростнике зашуршало. Кто-то продирался сквозь тесные стёбли.

Вот дрогнули тростники — высунулся плоский нос. Тотчас и по носу, как по тростнику, заколыхались солнечные колечки. Утка!
У всех уток всегда деловой, ужасно занятой вид. Но эта маленькая утица — с носом в колечках, с ярко-зелёными зеркальцами на крыльях, — эта чируша была сама озабоченность. Она тихо крякнула и, упираясь перепончатыми лапами, продиралась вперед, на чистую воду. За ней гуськом, по пробитой дорожке, торопились пуховые утята — хлопунцы лапчатые.
Последний — самый маленький — отстал. Заспешил, подскочил — и попал шейкой между двумя стеблями тростника, заклинился и повис в воздухе. Запищал отчаянно и лапками зашлёпал по воде.
Утица, хлеща жёсткими крыльями по воде, ринулась назад. Схватила утёнка носом за мягкую шейку, подняла и понесла на чистую воду. Глупыш и в материнском клюве пищал и дрыгал ногами.
Много, ох, много трудов приняла утица, пока вывела своих утят из болота, где было её гнездо, на открытый плёс. Вот и последнего брыкуна вытащила и пустила на воду. Сама окунула головку, вскинулась столбиком, забила в воздухе крыльями — и закрякала что-то своё, утиное, радостное… Да вдруг так столбиком и ушла вниз, под воду, — захлебнулась на утином полслове.
Утята захлопали по воде культяпочками и бегом — лапками по воде — помчались в тростники.
А там, где исчезла утица, звонко, как ладонью, хлопнул по воде рыбий хвостище — и побежали, побежали по воде круги до самого того места, где я сидел. Сердито застучали тростники друг о друга, будто костяные палочки.
Вот так сомище!
Бедные юнцы-хлопунцы! Как без утицы будете? Кто сигнал тревоги подаст, кто под крылом согреет? Кто за шейку из беды вытащит?
Завозился я в лодке, шлёпнул веслом по воде, — хоть напугать губатого обжору!
И вдруг радостный утиный кряк!
Утица чируша стоит на воде, крыльями бьёт и крячет, крячет! Только это другая утица, не та…
Она тоже вывела хлопунцов своих на широкую воду — вот и празднует, и кричит от радости. И хлопунцы другие: совсем ещё маленькие. Плоские носики на зобок уложили; щёчки пухленькие, в жёлтом пушке.
Утица — один глаз в небо — не летит ли хищный лунь? — другой вниз — нет ли под водой сома? Оглянулась по сторонам, помолчала немножко. Крякнула — и поплыла вдоль стены тростников.
И утята за ней гуськом, один за другим. И все вниз, в воду смотрят: первый раз себя в зеркале увидели. Увидели — и сами себе очень понравились.
«Где-то сейчас те сироты-утята?» — подумал я.
А они тут как тут! Выплывают из тростника, культяпочками по воде бьют — спешат вдогон за утицей.
Вот догнали, пристроились к её утятам в хвост — тоже гуськом, один за другим. Только росточком чуть побольше, а то бы и не отличить.

Утица задержалась, повернула назад. Каждого утёнка носом тронула, будто пересчитала. И то ли в счёте она слаба, или тут другое что, — только не прогнала она чужих утят. Сказала им что-то по-своему, по-утиному, и вся большая семья — свои и приёмыши — скрылась в тени нависшего над водой куста ольхи.
Тихая волна от утицы с утятами еле дошла до тростников, где я сидел. По зелёным тростникам снизу вверх — до самых серебряных метёлок — наперегонки побежали улыбчивые золотые солнечные колечки. Ай да утица — плоский нос!
Как хорошо!
Поганчики
Ловил я на озере рыбу. Тростники тревожно стучали друг о друга, как костяные палочки.
Быть дождю!
Я стал собирать удочки.
Вдруг вижу: из густого чакана — озёрной травы — выплывают на чистую воду поганки. Поганка-папа, поганка-мама и крошечные — с жука — поганчики. Поганка, по-учёному — чомга, скрытная птица, не всегда её увидишь.