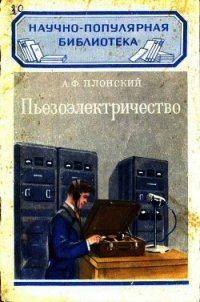Стая - Филиппович Александр Сергеевич (книги бесплатно без онлайн .TXT) 📗
Лишь с недавней поры произошло у них в доме этакое.
С того времени, как исчезла куда-то домработница и за старым хозяином перестала заезжать по утрам легковая машина с веселым шофером в кожаной куртке, и он, старик, можно сказать, теперь, с сиреневыми рыхлыми щеками, стал дома оставаться и с утра до вечера листал газеты в своей комнатенке-кабинетике, кряхтел там, кашлял, брякал бутылками и чиркал спичками. В ту комнату Гайду редко когда впускали, и она мало видела теперь старика.
Да-а… а совсем еще недавно был он другим: в силе, прям, узколиц и, что его старший сын, на глаза строг. По вечерам же с ним почтительней тихо говаривали многие другие люди, заглядывавшие к ним в гости, а нынче почему-то захаживать переставшие.
Эх, все… ну все стало теперь в их доме иным!
И хозяйка-то — тоже.
Прежде, в такие-то вечера, она редко когда подолгу засиживалась на веранде. Чаще, прицепив ее, Гайду, на поводок, она выходила в поселок, и они несколько раз из конца в конец прогуливались по центральной улице, и все с ними здоровались. Это лишь теперь на все вечера оставалась хозяйка дома, листала беспрестанно книги, точно отыскивала в них нечто необычайно для себя важное, устраиваясь в своем раскладном креслице, поставив ноги в толстых старушечьих носках из белой самопрядной шерсти, подшитых на пятках простой материей, на низенькую скамеечку, на которой всегда раньше сиживала домработница, когда перебирала и обрезала ягоду, сорванную в саду…
Да, нечто непостижимо огромное определенно произошло со всем их домом. Нынче летом, впервые за многие годы, не пришли на усадьбу рабочие. Никто в комнатах не передвигал вещей и не красил полов, дверей и окон, заполняя помещения стоячей вонью масляной краски. И пищу-то готовили нынче помалу и попросту — заваривали чай и жарили картошку на плитке, а мясо не разделывали сырым, в кусках, а уже готовое доставали из железных банок. И по вечерам, в сумерках, перестала вовсе приезжать машина, из которой веселый курносый шофер выносил разные продукты, теперь хозяйка ходила за продуктами сама.
На нынешнее лето не приехали и сыновья.
В последнюю зиму, правда, несколько раз заглядывал к старикам младший их сын, смуглолицый, с недобрыми вроде бы, темными глазами, похожий, в отличие от старшего, на мать. Перед тем как отобедать, старый хозяин привычно разливал водку. Обедали хотя и молча, зато потом долго и громко, ожесточаясь, спорили меж собою и заканчивали неизменно почти что полным друг на друга криком, после которого хозяйка первой скрывалась на кухне мыть посуду и бесконечное время возилась там с тарелками, то и дело из рук роняя их в таз с водою.
А ведь раньше никто и никогда не кричал в их доме! Все творилось как бы молча, но за всей этой тишиной будто бы скрывалось непременно нечто значительное и важное. Теперь же, странное дело, когда так много стало крику, за всем этим шумом не угадывалось ничего, а представлялась одна одинокая пустота.
После таких-то обедов младший ихний выходил скоро из дому, садился в собственный пропыленный, со всех сторон забрызганный «газик» и укатывал, чтобы в следующий раз объявиться уже через много-много дней, забрать выстиранное белье и свалить в ванной заношенные, запахами пота пронизанные другие свои тряпки. Но ее, Гайду, он никогда не замечал, словно бы в чем-то лично перед ним она была виновата, и потому она его приездов совсем никогда не ждала.
Редко-редко за последний год, каждый раз ненадолго, заглядывал к хозяевам старший их сын, но теперь уже не в офицерское одетый, без кителя с прямоугольниками погонов на плечах. А в последний раз, весною, кажется, примчал он даже в машине, в точности такой же, в какой заезжал прежде за хозяином по утрам веселый шофер в кожаной куртке. Только у этой его машины, в отличие от той, хозяйской, спереди по-кошачьи горел зеленый огонек.
В тот последний свой приезд старший хозяйский сын выбрался из кабины в обыкновенной клетчатой рубашке с закатанными по локти рукавами. В столь же обычнейших клетчатых рубашках мимо их дома с весны по осень хаживали многие местные по утрам за поселок к заводу, над которым высоко вставали трубы литейки, беспрерывно исторгая из цехов желтый клубящийся дым, а вечерами — обратно в поселок.
Он, старший хозяйский сын, один тогда изо всех в доме был отчего-то постоянно весел и смеялся даже чаще, громче и как-то свободнее, что ли, прежнего. Накручивая на палец тонкую медную цепочку с ключиками, он много в тот свой последний приезд ласкал ее, Гайду, и от его коричневых рук тепло пахло машиной. В тот раз, уезжая от стариков весьма скоро, даже не отобедав в гостиной, где хозяйка взялась было стол тотчас накрывать, он посадил с собою в машину и ее, Гайду.
Они проехали через весь поселок к своротке на широкую, прямо через леса проложенную дорогу, которая никуда не отворачивала и по которой в обе стороны проносились мимо огромные пыльные машины. Здесь, у своротки, остановив машину, старший хозяйский сын закурил папироску, открыл дверку и легонько, ласково взлохматил гриву ей, Гайде:
— Ну, иди-иди, друг человека! — улыбнулся он на прощанье и подтолкнул к дверке.
Гайда преданно и жарко лизнула эту огромную коричневую и теплую его руку, насквозь пропахшую машиной. Затем присела на обочине дороги, а он, перекинув папироску из угла в угол улыбающихся губ, весело подмигнул, хлопнул дверкой и покатил по тракту. Гайда долго, пока возможно было только, глядела вслед этой его машине, которая быстро, быстрее всех других, как ей казалось, убегала вдаль по дороге, то и дело помаргивая красным огоньком.
А возвращаясь, у крайних домов поселка Гайда опять повстречала бездомную суку, и опять она, как тогда, когда старшего хозяйского сына в далекое теперь лето провожала на станцию, долго, до самой почти усадьбы, бежала следом, нисколько не пугаясь, и Гайде было неимоверно унизительно, что она уже стара и дряхла. И она старалась бежать на виду у этой суки, хотя и не могла ее обмануть, бойче и быстрее, как только возможно.
Все лето ждала она старшего хозяйского сына, прибегая иногда к своротке и с тоскою глядя на огромные пропыленные машины, проносившиеся мимо. Изредка с той стороны, куда укатил весной старший хозяйский сын, показывались такие же машины с квадратиками на капоте и дверках, но хоть и сидели в них, как правило, даже нестарые и веселые люди с коричневыми лицами и в клетчатых рубахах, но были это не те люди, другие и незнакомые, и машины стремительно пролетали мимо своротки к поселку. Однажды, правда, Гайде почудилось, что будто бы в одной такой машине ехал он, кажется, старший хозяйский сын, но и та машина тоже промчалась мимо, как и все другие…
По ночам становилось в доме тихо, и, вытягиваясь на подстилке, которую уже давно никто не вытряхивал, и подобрав под себя лапы, согревая их теплотою собственного дряхлеющего тела, Гайда подолгу слушала ночные шумы и шорохи огромного опустевшего нынче, словно погибающего от какой-то неумолимой беды, дома и звуки сада и улицы, что продолжали упрямо жить за стенами этого дома. Ей казалось, что все различает она по-прежнему хорошо, что слышит, как безнаказанно шныряет по усадьбе бездомная сука, как затихают вдалеке на стылой земле шаги последних прохожих и как по подъездам двухэтажных коммунальных домов шепчутся молодые мужчины и молодые женщины.
Но все это, в сущности, ей только казалось, потому что были это всего лишь шумы ее собственной памяти, заполненной событиями и впечатлениями прожитой жизни, а зачастую и одни лишь воображения даже; и в этом смешении всего того, что случалось когда-то с нею самою, с тем, чего, может, так и вовсе с нею не приключалось, но что могло происходить и что происходило даже… с ее предками хотя бы, передавшими ей когда-то свою память, — проходили долгие осенние ночи.
В первых числах октября Гайда почувствовала, что к ней наконец приблизилось ЭТО.