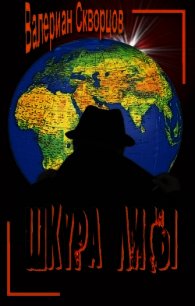Годы, тропы, ружье - Правдухин Валериан Павлович (читать книги онлайн без .txt) 📗
— Да, может быть, то и был заяц с самого начала? — говорю Степану.
Он возмущенно машет руками:
— Ни. То был леший. Я ж бачив его. Не справился я его за хвист ухватить, был бы у мене в руках. А он, гадюка, хвист промеж ног сховал. А его, окромя хвиста, ни за ще не удержишь. Это я знаю.
Я смеялся, но он продолжал серьезно, без тени улыбки:
— Нет, ты подождь. Я тебе расскажу, что со мной раньше приключилось. Пошел я на волкив на гумно. Они у Зюбановых семь овец задрали. Зализ я на маковку скирды, сижу, як в печурке. Ночь темная. На небе звезды засветились, а тут ще темней. Перед скирдой паленый боров у мене лежит. У Хведора Телеги подох, я его опалил и за канаву уволок. Зайцов набежало як баранов. Но я ожидаю волкив. Гляжу: идут от Губерли долком. Поперек молодой жеребец, справный такой, а позади матерая волчица. Идут гуськом, выглядают вокруг, як хлопцы в чужой деревне. Я справил ружье, а сам раздумываю: кого ж стрелить — ее или его? Подошли они шагов сорок до мене. Я изладился по нему да як пыхну. Он на дыбки, к овину и закорежился. Волчица взвыла, будто матерь о диточках, потом як махне ко мне. Ще тут робить? Я плашмя на другую сторону овина, ружье с рук не выронил. Была б тут моя смерть, да, видно, бог не схотел моей гибели. Стояла у овина кошелка, полову в ней бабы носят. Я упал на нее, она покатилась и накрыла мене. Волчица на кошелку. Ласкае зубами, лапами кошелку дерет, схилить набок хочет, — я не пущаю. Сыплю порох в ружье. Сколь его по земли распылил, не счесть, а все ж зарядил, на пыж ваты из шапки зубами выдрал, жменю дроби вкинул да як ее по брюху жарну, она аж на сажень вверх подскочила и утикать. Вышел я из-под кошелки, а кругом никого, и крови нема. Вот она, яка история!
Из-за плетня неожиданно послышался светлый смех Насти:
— Ох, и брехать же ты, Степан, здоров. Ну и брехло! Степан отплюнулся в сторону девки и замолчал, насупившись. Я проводил его улицей до дому. Мы условились, что около полуночи он стукнет в кухонное окно к Насте, а она скажет мне, и мы пойдем на гумна.
Спал я в столовой на полу, разостлав белую кошму. Сердце мое замирало от волнения в ожидании прихода Насти, — заснуть я так и не смог. Я слышал, как Настя вошла в столовую, но не поднялся, прикинувшись спящим. Была она босая, в ситцевом платье. Наклонившись надо мною, она тронула меня за руку:
— Вставай, Валя. Не то Кальбан замерзнет пид окнами.
Я задержал ее руку в своей. Она потянула меня с постели и, улыбнувшись, ушла на кухню. Когда я проходил на двор, Настя доверчиво попросила меня:
— Будешь ворочаться, меня збуди. Тесто у меня в квашне. Ты чуть меня тронь, — я живо опрокинусь.
Степан усадил меня на высокий скирд соломы против туши борова. Сам расположился в стороне, у небольшой копны, занесенной снегом.
Впереди за канавой начинались зимние поля, серыми сумрачными полосами убегавшие в темноту ночи. Сквозь голубоватую изморозь сверху проглядывали звезды. Хутор спал. Даже собаки приумолкли к полуночи. Со всех сторон распростерлась тишина, ничем не тревожимая. Меня укачивало, веки невольно слипались, хотелось спать. Луны не было. И чудилось мне, что меня уносит от шумных городов, от огней, от теплых комнат в серый сумрак безлюдных пространств, в хаос мертвого от холода мира. Впервые меня охватила жуть от одиночества, стало мне страшно своей смелости, из-за которой я был выброшен из привычного житейского закутка. Не будет ли моя жизнь одиноким блужданием по серому сумраку ночи? Не слишком ли тяжелый путь я выбрал для себя? Самая настоящая животная трусость помимо моей воли просачивалась в мою душу. Захотелось вернуться снова на теплую кошму, снова очутиться в привычной колее среди товарищей в семинарии, отдаться на волю ненавистным учителям… Я дремал. И видел во сне себя большим, скучным, одетым в длинный черный сюртук со светлыми пуговицами…
В этот момент сзади остервенело залаяли собаки, — я скинул с себя наваждение, выбранил себя за подлую животную трусость и стал внимательно вглядываться вперед. Поля ровно струили серый сумрак. Кругом ничего нельзя было заприметить. Но во дворах зло надрывались собаки: где-то неподалеку ходили волки. Я сидел, завернувшись в шубу, на самой макушке скирда. Рядом шла канава. Кто-то зашуршал в ней тихо и осторожно. Я привстал на колени и глянул вниз. По полю бесшумно метнулась седовато-белая волчья тень. Судорожно схватился я за ружье, но было уже поздно: тень моментально растаяла. Я готов был заплакать от досады. Волк крался возле меня вдоль по канаве, всего шагах в десяти. Эх, что бы мне заранее приготовить ружье, — я бы ударил его чуть не в упор. О, каким бы торжеством было мое возвращение домой! Я втащил бы волка прямо в комнату, разбудил бы отца. Как бы взглянула на меня Настя!
Мои горькие размышления прервал неожиданный выстрел Степана. Я привскочил и стал вглядываться в его сторону. Из-за копны показалась фигура охотника. Двинулась вперед и на четвереньках стала елозить по снегу. Я скатился со скирда и пошел к нему.
Кого стрелял?
Русака. Повалился, а потом скаканул вот сюды… Да где же он, бисов сын?.. Ага! — прохрипел страстно Степан. — Ага, вон вин. Ишь яка громадина!
Начиналась предутренняя поземка. Закрутились над полями белые космы снега. Мы тронулись домой. Я рассказал Степану про волка.
— Це опять леший был, не волк, — невозмутимо заметил Кальбан. — Ему негде было пройти, як мимо мене. Я б его убачил.
На улице Степан начал рассказывать, как он прошлым летом ходил искать цветущий папоротник, как отыскал его на Губерле под скалами, у корня старой березы, хотел было сорвать, но из-под дерева вылез старик, седой-седой, с длиннущей бородой, и стал уговаривать Степана не трогать в этом году клада. Папоротник надо рвать всегда в високосном году, не раньше как через сто дней после именин Касьяна, лучше всего в Иванову ночь. Степан не послушал старика и протянул руку к чудесной траве, — ударил гром, земля заходила ходуном, Степана швырнуло на воздух. Очнулся он только днем на задах у себя, возле старого колодца.
— Теперь я смерти своей дожидаю, — грустно заметил Кальбан.
Я смеялся над его страхами, но он продолжал уверять меня, что ему не дожить до Нового года. Мы распрощались с ним у нашего колодца. Я прошел через сугробы во двор, ласково потрепал выскочившего из-под сарая Цезаря и тихо отворил дверь в кухню.
Настя спала на полу у лавки. В кухне было жарко, она лежала, широко разметавшись. Голая, изогнутая нога ее была открыта выше колена. Было что-то звериное и нежное в изгибе этой сильной ноги. Я наклонился над постелью и закрыл ногу одеялом. Настя замычала, но не проснулась. Я смотрел на лицо спящей девушки, улыбавшейся чему-то во сне, и думал со страхом:
«А что, если поцеловать ее?»
Не решился. Показалось пошлостью мое намерение. Взял осторожно ее руку. Девушка открыла глаза, узнала меня и беззвучно засмеялась:
— Я сейчас, сейчас… Уйди!
На святках мы со Степаном гоняли по хутору русаков. Русаки ходили ночами к ручью, пробегавшему меж двух улиц. Там они оставались и наутро, забираясь под овины с хлебом. Степан заходил на окрайку улицы и гнал на меня зайцев. Я сидел за плетнем, с нетерпением поглядывая через его щели. Споро мчался матерой русак вдоль ручья, вскидывая на бегу рыжим задом, подергивая черными пятнами длинных ушей. Веселыми раскатами гремели мои выстрелы в чистом морозном воздухе. Мы бежали с двух сторон к раскинувшемуся на белом снегу рыжеватому пышному красавцу, возбужденно орали, взвешивали его на руке, споря, сколько в нем будет фунтов: десять или двенадцать, опять шли на другой конец села, чтобы снова пережить этот жгучий охотничий озноб и здоровую радость от удачного выстрела.
Настя радовалась вместе с нами, когда мы разложили на полу кухни двух тяжелых, пышных, по-зимнему красивых русаков. Угощала нас чаем. Смеялась над нами:
— Во дворе всякий дурень убьет.
Даже Степан попытался что-то пробунчать себе под нос, защищаясь от ее насмешек. Мы с ним задались целью отомстить ей: замучить ее «самоварами». Сперва сами выпили стаканов по десяти чаю, потом стали незаметно выливать его в лоханку. А когда Настя ставила второй самовар, насыпали ей туда дроби, и самовар не закипал часа полтора. Настя не понимала, в чем тут дело, жгла без конца угли, с негодованием кляла «проклятую посудину». А когда мы сознались, — еще пуще бранила нас, обещая пожаловаться моей матери. Незатейливые наши радости продолжались до самого вечера. В сумерки Степан ушел домой.