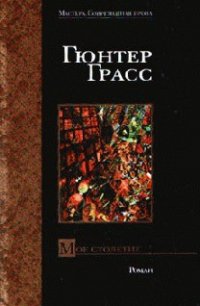Прощание - Буххайм Лотар-Гюнтер (бесплатные серии книг .TXT) 📗
— Сначала ждать, а чай пить потом!
— Так думают и они. Если мои опасения оправдаются, то корабль будет болтаться здесь снаружи, на якоре, еще добрых два дня, пока ему позволят подойти к пирсу. Почему оба представителя ведомства по атомной энергии привезли с собой такой большой багаж? Они наверняка в курсе дела.
— Но ничего не выдали?
— Нет. И если для народа здесь мы должны организовать прием, то сделаем ведь все, как полагается, и устроим представление — а к этому добавим еще и приветливые лица. Но эти братцы не проявляют заботу даже об элементарных вещах: доставка почты — это-то они могли сделать по меньшей мере. Тебя поражает, что я это говорю? Естественно часто бывает, что что-то не ладится. И что я хотел сказать еще: моей серьезной отрадой этот прием не является!
Смешно, старик ведет себя так, как будто должен, — и именно передо мной, — извиняться за свою злость.
— Я рад уже тому, — говорю я, — что ты реагируешь. Сегодня до обеда я думал, что тебе абсолютно все равно.
— Ты считаешь прогрессом уже то, что я реагирую?
— Ну, конечно же! — говорю я и ухмыляюсь.
— Тоже комплимент! — отрывисто говорит старик. Теперь он выглядит не таким рассерженным, но все равно его заносит: — Все это не нравилось мне с самого начала. Информация была достаточно неясной. Я не знал, чего они хотели. Сначала они говорили: не становитесь на якорь. Потом началась такая ужасная качка, что я выбросил якорь…
— Выбросил якорь?
— Ради бога. Я знаю, что затронул больной для тебя вопрос. Еще в Бресте ты читал лекции на тему «бросать якорь». Этого никто не может сделать из-за громадного веса якоря. «Еще один выбрасыватель якоря!» — я еще слышу твои слова, если кто-то из флотилии выражался, по твоему мнению, неточно.
— И вы считали меня «чокнутым»?
— Я-то нет. Я знал, что ты читал своего Йозефа Конрада. Так что извини! Я «опустил якорь». — Наконец-то улыбка осветила все лицо старика.
— Теперь я вспоминаю свой первый рейс на «Отто Гане», — говорю я, — тогда прибытие было таким же впечатляющим.
— Но это же было в Бремерхафене? — спрашивает старик.
— Да, в Бремерхафене зимой, за день до моего дня рождения.
— Не так уж радостно это звучит, да и не должно, наверное, — отвечает старик сам себе, потому что я ничего не говорю. — Смешно — торчим перед Дурбаном, а думаем о Бремерхафене.
— Мы пролетаем время и пространство, причем без технических приспособлений.
— Смешно, — снова говорит старик. — Я спрашиваю себя, какая там сейчас может быть погода.
— Bonjou tristesse! [48] — говорю я и, так как для меня это звучит слишком патетически, добавляю: — Счастье наше, что мы живем здесь, в передней части судна. В кормовой надстройке, кажется, каждую ночь даются приемы.
— К счастью! Тогда бы сегодня вечером я смог бы сбыть обоих этих атомных специалистов и они не сидели бы у меня на шее. Их принимали с шумом. — Старик видит, что я ухмыляюсь, и спрашивает: — Что тебя беспокоит?
— Однажды я пережил смещение в пространстве и во времени в еще более сумасшедшей форме, это было во время моего путешествия в южные моря: точнее, на острове Понапе.
— Рассказывай! — настаивает старик.
— В то время я находился довольно долго в пути, и по вечерам всегда диктовал в мой маленький диктофон. Так много кассет, сколько мне было нужно на эти месяцы, у меня с собой не было. Тогда Дитта переслала мне несколько кассет самолетом, и, чтобы все прошло нормально, я сначала переписал их, прослушав донесения Дитты. А на мекленбургский диалект Дитты лягушки в нашем пруду в Фельдафинге реагируют громким кваканьем. В этом году у нас было много лягушек, и теперь я проигрывал кваканье этих баварских лягушек на острове Понапе. В наши дни делают совершенно другие вещи, но в то время для меня это было чудом техники — к тому же трогательным чудом.
Старик смотрит на меня требовательно. Вне всякого сомнения, он ожидает продолжения. И тогда меня как кипятком «ошпаривает» мысль, что я давным-давно хотел рассказать ему о моем пребывании на этом потерянном острове Понапе.
— Там в джунглях квакали не только баварские лягушки, — начинаю я медленно. — Там мне довелось услышать и твое имя.
Старик подскакивает, как наэлектризованный:
— Скажешь тоже! — говорит он. — Это правда?
— Если я тебе говорю! — И я демонстрирую нерешительность, чтобы, потянув время, сделать эту историю еще более напряженной.
— Итак, — начинаю я, — я застрял на этом покинутом Богом острове — воздушное сообщение только раз в неделю, — и пытался писать маслом, то есть, я писал как сумасшедший, сражаясь с тропической жарой. Я был как под кайфом. Однажды мне сказали — после обеда ожидается корабль, большой корабль. Я был взволнован. Как сможет большой пароход пройти через риф, через этот узкий проход? А затем я еще узнал, что капитан корабля, возможно, немец.
Я наблюдаю, что делается с лицом старика: он напряженно смотрит на меня. Мне надо не торопиться, чтобы не сразу назвать ему имя капитана.
— После обеда, часа в три, я увидел корабль, поднимающийся над горизонтом, впервые после войны я видел это так подробно: от первого дымового шлейфа до того момента, когда он проплыл через проход. Как они это сделали — это было поразительно. С обеих сторон у них имелось столько же места, сколько имел твой пароход в Панамском канале.
Заметив, что старик проявляет нетерпение, я специально делаю паузу.
— Капитана звали Рогнер.
Старик откашливается и спрашивает:
— Рогнер?
— Да, Конрад Рогнер из Глюкштадта.
— Гм, — бурчит старик и направляет свой взгляд на кусок ковра перед своими ногами. Его наклоненная вперед фигура так напряглась, что мне показалось, что он хочет на всю жизнь запомнить рисунок ковра.
И тут я замечаю, что в наших рюмках больше нет вина, да и бутылка стоит пустая.
— Сначала я приготовлю еду, — говорю я и поднимаюсь с кресла. Чтобы вернуть себе способность двигаться, я должен основательно потянуться.
— Рогнер! — говорит старик. — Он плавал со мной на каботажнике вдоль побережья Аргентины.
— Да, он мне рассказывал.
— Что он там еще понарассказывал? — недоверчиво спрашивает старик.
— О разных дамах на борту и все в таком же духе.
— То есть ничего, кроме прибрежных сплетен?
— Так долго мы с ним об этом не говорили. Я уже и не помню, когда мы с ним заговорили о тебе. Он был ошеломлен так же, как и я от встречи на Понапе с немцем, и тем, что у нас даже есть общий знакомый, а именно ты… Рогнер был настроен в первую очередь на развлечения, когда он наконец оказался на берегу, — ну ты же знаешь, что я имею в виду.
Теперь старик сидит, совершенно расслабившись, в своем кресле, а я продолжаю говорить:
— Это было так: в моем распоряжении был автомобиль, и вечером я еще раз поехал к кораблю. Рогнер очень обрадовался и сразу же спросил, не могу ли я подождать, пока он допьет свое пиво, после этого я могу его и шефа забрать с собой в населенный пункт. Я, естественно, сказал «охотно!» — тоже выпил пива, затем добавил еще две или три кружки, прежде чем мы выехали. Рогнер сказал, что познакомился с одной леди, с которой он договорился встретиться в мотеле, расположенном наискосок от моего отеля. Так что поедем к этому мотелю. Было примерно половина восьмого, мы сидели на какой-то террасе с красной, желтой и зеленой лампочками и с большим трудом пытались поддерживать разговор. О чем — я уже не помню. Леди, которую высматривал Рогнер…
Тут в дверь постучали — посыльный. Очевидно, агент вошел в наше положение и, несмотря на зыбь, выслал к нам катер с единственной целью доставить нам поздно вечером почту. Я поспешно хватаю свою пачку писем, а затем вполглаза вижу, что старик держит в руках только почтовую открытку, в которую он неподвижно уставился. А он так сильно ждал почту. Я втягиваю живот, небрежно засовываю свои письма за пояс, как будто они меня не особенно интересуют, и продолжаю говорить:
48
Бонжур тристес — здравствуй, печаль!
![Подлодка [Лодка] - Буххайм Лотар-Гюнтер (электронные книги бесплатно .txt) 📗](/uploads/posts/books/4937/4937.jpg)