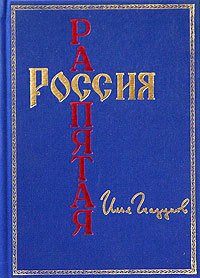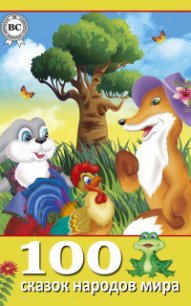Коронка в пиках до валета. Каторга - Новодворский Василий (читать книги онлайн бесплатно полностью .TXT) 📗
Да еще с такими нежными словами на устах.
– Позвольте вам представить, Василий Иванович, мою единственную дочь, – говорит купец, – Вареньку! Наш гость – Василий Иванович.
– Папаша, обед готов, – заявляет «Варенька», раскланиваясь под неумолкающий хохот с Василием Ивановичем.
Действие четвертое.
– Бежать, бежать я должен отсюда! – говорит Василий Иванович. – Я чувствую, что здесь мои мучения становятся сильнее. Я полюбил Вареньку… Я, ссыльнокаторжный, бродяга, которого каждую минуту могут поймать, заключить в тюрьму, отдать палачу на истязание. О, какое мучение!
Он берет катомку.
– Куда вы, Василий Иванович? – спрашивает его вошедшая Варенька.
– Прощайте, Варвара Потаповна, – кланяется он, – я ухожу от вас. Пойду искать… не счастья, нет! Счастье мне не суждено! Смерти пойду я искать…
– Зачем вы говорите так? – перебивает его Варенька. – Вы много видели горя? Вы никогда мне не говорили, кто вы, откуда к нам пришли. И папенька мне запретил спрашивать вас об этом. Почему?
– Это я никому не могу сказать!
– Никому? Даже вашей жене?
– Зачем вы сказали такое слово? – отирая слезу, говорит Василий Иванович. – Вы смеетесь над бедняком.
– Нет, нет! Я сказала это неспроста, не для смеха. Я люблю вас, Василий Иванович, я полюбила вас с первого взгляда. Мне вы можете сказать, кто вы такой.
– Так слушайте же! – с отчаянием произносит Василий Иванович. – Перед вами – тяжкий преступник, отцеубийца! Бегите от меня: я каторжник, я кандальник! Я… я… убил родного отца!
– Ах! – вскрикивает Варенька и, под хохот публики, падает в обморок.
– Я убил и ее! – ломая руки, говорит беглый каторжник.
– Нет, я жива! – очнувшись, отвечает она. – Прошу вас, не уходите, подождите здесь одну минуту!
Вы, конечно, догадываетесь о конце.
– Моя дочь сказала мне все! Она любит вас и согласна быть вашей женой! – говорит вошедший отец. – Василий Иванович, прошу вас быть ее мужем!
– И для несчастного суждена новая жизнь! – этими словами Василия Ивановича под аплодисменты публики заканчивается пьеса.
Эта излюбленная пьеса каторги, ее детище, ее греза.
Пьеса, в которой сказались все мечты, все надежды, которыми живет каторга.
В ней все нравится каторге.
И удачное бегство, и то, что беглый каторжник находит себе счастье, и то, что «порядочные люди» говорят с ним вежливо – на «вы», как с человеком, и то, что есть на свете люди, которых не отталкивает от падшего даже совершенное им тягчайшее преступление.
Люди, которые видят в преступлении – несчастье, в преступнике – человека.
После этой пьесы, где нет ничего бутафорского, где все настоящее: каторжные, кандалы, халаты, – мы, конечно, не станем смотреть «разбивания камня на груди» и прочих прелестей программы.
Пройдем за кулисы.
Каторжные артисты
Огарок, прилепленный к скамье, освещает самую оригинальную «уборную» в мире.
Торопясь к перекличке, артисты переодеваются в арестантские халаты.
Те, которые играли кандальников в «Беглом каторжнике», покуривают цигарку, переходящую из рук в руки, и ожидают платы от антрепренера.
Им переодеваться нечего: их «костюмы», их кандалы не снимаются.
Кулисы всюду и везде – те же кулисы. То же артистическое самолюбие.
– Благодарю вас! – крепко жмет мою руку Сокольский, когда я расхваливаю его чтение «Записок сумасшедшего», – вы меня обрадовали. Все-таки хоть и такой театр, но все же это что-то человеческое… А я, признаться, сильно трусил: играть перед литератором, перед понимающим человеком… Так ничего себе?
– Да уверяю вас, что очень хорошо! Вы никогда не были актером, Сокольский?
– Актером – нет. Но любительствовал много. В Секретаревке, в Немчиновке (любительские театры в Москве). Ведь я из Москвы. Вы тоже москвич? Ах, Москва! Малый театр! Ермолова, Марья Николаевна! Бывало, лупишь из «Скворцов» (студенческие номера) в Малый театр на верхотурье. А помните, Парадиз привозил Барная, Поссарта. Я и теперь его в Ричарде словно перед глазами вижу. Монолог этот после встречи с Елизаветой… «На тень свою мне надо наглядеться!»
– Сокольский, черт! На перекличку иди! Опять завтра в кандальную посадят! – высунулась из-за занавески физиономия антрепренера.
– Сейчас… сейчас… Вы меня извините. К перекличке надо. Вот если бы вы позволили… Да уж не знаю… Нет, нет, вы меня извините!..
– Что? Зайти ко мне?..
– Д-да…
– Сокольский, как вам не стыдно?
– Ну, хорошо, хорошо. Благодарю вас. Так завтра, если позволите…
– Да иди же, дьявол, опять будешь в кандальной – из-за тебя представление отменят!
– Иду… иду… Значит, до завтра! Сокольский побежал на перекличку в тюрьму.
– А вы отлично поете куплеты! – обращаюсь я к Федорову. Федоров сияет.
– При театре, знаете, поднаторел… А вы к нам из Одессы изволили, говорят, приехать. Кто теперь там играет?
– Труппа Соловцова. [16]
– Николая Николаевича? Ну как он?
– А вы и его знаете?
– Его-то? Еще с Корша помню. У Корша я парикмахером был. Да кого я не знаю! Марью Михайловну (Глебову) сколько раз завивал. Рощин-Инсаров – хороший артист. Я ведь его еще когда помню. Отлично Неклюжева играет. Киселевский Иван Платоныч – строгий господин: парик не так завьешь – беда!
Федоров смеется при одном воспоминании, – и у него вырывается глубокий вздох.
– Хоть бы одним глазком посмотреть на господина Киселевского в «Старом барине!» Эх!
– Абрашкин, чего на перекличку не идешь?
Но Абрашкин артист на роли ingenue dramatique, стоит, переминается с ноги на ногу, дожидается тоже комплимента.
– А здорово, брат, это ты представляешь! – обращаюсь я к нему.
Глупая физиономия Абрашкина расплывается в блаженной улыбке.
– Я, ваше высокоблагородие, на руках еще могу ходить, – место только не дозволяет!
– Комедиянт, дьявол! – хохочут каторжане. Абрашкин со счастливой рожей машет рукой.
– Так точно! А ведь этот добродушный человек резал.
Бродяга Сокольский
– К вам Сокольский. Говорит, что приказали прийти! – доложила мне рано утром квартирная хозяйка.
– Где же он?
– Велела на кухне подождать.
– Да просите, просите!
Если бы улыбка не была в этом случае преступлением, трудно было бы удержаться от улыбки при взгляде на «штатский костюм», в который облачился для визита ко мне Сокольский.
Рыжий, весь рваный пиджак, дырявые штиблеты, необыкновенно узкие и короткие штаны, обтягивавшие его ноги как трико, – совсем костюм Аркашки.
– А я к вам в штатском, чтоб не смущать вас арестантским халатом, – сказал он.
– Да будет вам, Сокольский, о таких пустяках. Садитесь, будем пить чай.
Сначала разговор вязался плохо. Сокольский сидел на кончике стула, конфузливо вынимал из кармана белую тряпку, которую достал вместо платка.
Но мало-помалу беседа оживилась. Оба москвичи, мы вспомнили Москву, театр, приезжих знаменитостей.
Оба забыли, где мы.
Он оказался горячим поклонником Поссарта, я – Барная. Мы спорили, кипятились, говорили горячо, громко, так что хозяйка несколько раз с недоумением, даже с испугом заглядывала в дверь. Чего, мол, это они? Не наделал бы он приезжему господину дерзостей?
Я продиктовал Сокольскому «Записки сумасшедшего», которые знал наизусть. Записывая их, Сокольский от души хохотал над бессмертными выражениями Поприщина.
Разговор перешел на литературу. Сокольский особенно любит, знает и понимает Достоевского. Помнит целые страницы из «Мертвого дома» наизусть.
– Ведь я сам хотел написать «Записки с мертвого острова». Конечно, это был бы не «Мертвый дом». Куда до солнца!
Но все-таки хотелось дать понять, что такое теперешняя каторга. Думал, – сам погиб, но пусть хоть как-нибудь пользу принесу. Многие из интеллигентных этим увлекаются. Да потом… бросают. Здесь все бросают… У всех почти начало есть… если только на цыгарки кто не искурил! Вот и у меня. Уцелело. Нарочно вам принес. Возьмете – рад буду.
16
Это было в 1897 году.