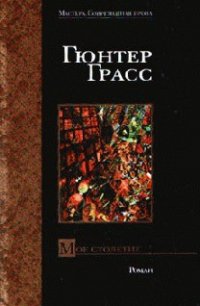Прощание - Буххайм Лотар-Гюнтер (бесплатные серии книг .TXT) 📗
— И почему ты не сбежал?
— Ну, во-первых, — куда? В Фельдафинге они бы меня сразу же схватили. Я был тогда как громом пораженный. Покорившимся судьбе, если хочешь, но в то же время упрямым. Я хотел добиться справедливости. «Так же дела не делаются!» — сказал я себе. Я все еще не понимал, что происходит.
— А потом тебя освободила Симона?
— Нет, к сожалению, это было не как в дешевых романах. Пока Симона приехала, прошло некоторое время. Не достаточно ли на сегодня? Я чувствую себя довольно обессиленным.
Старик делает несколько глубоких вздохов. Затем он спрашивает:
— Почему ты ни словом не обмолвился об этом?
— Потому что у нас не было времени. Возможно также, потому что я был еще недостаточно старым для этого.
Старик задумывается, глубокие складки, напоминающие узор стиральной доски, собираются на его лбу. Неожиданно он спрашивает:
— Еще раз наверх?
— С удовольствием!
Когда позднее я, растянувшись во всю длину, лежу на своей койке и закрываю глаза, то снова ощущаю себя перенесенным в потроха камеры безопасности. Герметически изолированный от внешнего мира, я снова торчу в этом битком набитом сборище агрегатов. Эта тишина, никакого эха — ничего.
Я чувствую сильную боль справа, в области почек. Это похоже на растяжение. От тесноты в камере безопасности появились вывихи, от которых я отвык давным-давно.
У меня трудности и с правой ногой. Ночью я интенсивно растирал бедро «Рубриментом». А теперь надо двигаться. С выступа мостика старик, очевидно, заметил, как я делаю круг за кругом.
— Что это на тебя нашло, что ты, как наш старый доктор, носишься по палубе? Солнечный удар? — спрашивает он за завтраком.
— В камере безопасности я занимался по-настоящему тяжелой работой, сделав большое число снимков! — жалуюсь я.
Но старик только ухмыляется:
— А мне вспоминается, как ты работал во время Гибралтарской операции, продемонстрировав на мостике, сколько приседаний ты можешь сделать, а потом лежал на койке с мышечной болью и чуть ли не умирал!
Я чувствую, что краснею, как будто еще и сегодня вынужден стыдиться этого представления.
— При малейшем прикосновении я тогда мог бы подпрыгнуть до потолка, — говорю я.
— Потолок бы выдержал!
— В то время у меня были по крайней мере еще здоровые кости!
— Ха, в то время! — говорит старик, и в голосе его звучит сарказм вместо сочувствия к моим недугам.
— Там внизу, в камере безопасности, было, между прочим, семьдесят миллирентген. Это, наверное, приличное количество?
— Ты мог бы надеть свинцовый суспензорий, — издевается старик.
— Какова нормальная доза? Двадцать миллирентген?
— Да, двадцать — это норма. Но и от семидесяти ты тоже не умрешь.
— Это чрезвычайно успокаивает!
Я откидываюсь назад в своем кресле и думаю: «Смешно, теперь я веду себя уже так, как будто очень хорошо разбираюсь в вопросах ядерной энергии».
— Там внизу было чертовски жарко. Я чуть не умер от жажды.
— Что ты жалуешься, ты же этого так хотел, — говорит старик и кивает шефу, который с вопрошающей миной остановился перед нашим столом; шефу предложено занять место.
— Возможно, это звучит идиотски, но меня смущает название «окатыш» (Pellet).
Шеф поднимает голову от тарелки:
— Как это?
— Это объясняется, вероятно, тем, что раньше мы ходили в один кинотеатр в Штарнберге, и этот кинотеатр назывался «Пеллет-Майер». Старый трактир, зал которого был переоборудован для демонстрации кино. Вход — одна марка. За одну марку я видел там «Третьего человека» с Орсоном Уэллесом, моим идолом. И теперь, когда я слышу слово «Пеллет», оно для меня всегда звучит вместе со словом «Майер». Безобидные окатыши «Пеллет-Майер», «Пеллет-Майер» во вмещающей трубе…
Уголками глаз я вижу, что старик смотрит на меня взглядом своего рода сторожа сумасшедшего дома, и спрашиваю его:
— А у тебя такие приступы бывают?
— У меня? Нет.
— Как скучно! Так как я до этого сказал «безобидный», мне приходит в голову еще несколько необычное. Безобидный есть в Мюнхене — и он знаменит. Мимо «безобидного» я проходил, когда направлялся в Английский сад. Иногда этот идеализированный бронзовый юноша имел бантик на пенисе. На цоколе скульптуры была надпись: «Безобидно шествует здесь…» — и больше ничего.
— Ваша ошибка, — говорит старик, качая головой, и обращается к шефу: — Вам не надо было пускать этого молодого человека в камеру безопасности. Нам придется ввести еще один дополнительный тест безопасности!
— Кстати, шеф: что означает этот зловещий ключ от реактора? Он существует или это только слух? — спрашиваю я.
— Да, — говорит шеф и продолжает, запинаясь: — Он существует. Выглядит как автомобильный ключ.
— И? — пытаюсь я подтолкнуть шефа к продолжению.
— Этот ключ существует в одном-единственном экземпляре. В соответствии с правилами внутреннего распорядка после отключения реактора я должен взять его себе и держать под замком.
— Но что произойдет, — настаиваю я, — если вы с этим ключом, я имею в виду не ключ от реактора, а ключ от места хранения ключа от реактора, или, как вы его там называете, если вы с этим ключом в кармане брюк сойдете на берег и утонете в болоте? Есть ли в правилах внутреннего распорядка указания и на этот счет?
— Я не утону в болоте на берегу! — резко возражает шеф и смотрит на меня так раздраженно, что я больше не решаюсь сказать ни слова.
В семь часов сорок минут мы пересекли экватор. Я узнаю об этом достойном упоминания факте часом позже, когда читаю вахтенный журнал и спрашиваю первого помощника, несущего службу, почему об этом не сообщили по бортовому громкоговорителю:
— Ведь семь часов сорок минут — удобное время!
Первый помощник возмущается:
— Мы же не музыкальный пароход!
— Некоторых, например, стюардесс, которые впервые плывут на корабле и слышали о морском крещении при пересечении экватора со всем его трамтарарамом, известие об этом, — если уж нет крещения, — очень бы заинтересовало. Ведь это ничего не стоит, — возражаю я.
Первый помощник смотрит на меня непонимающе, он на корабле отвечает за погрузочно-разгрузочные работы и должен заботиться о чистоте и порядке. Голуби и экваториальные ритуалы для него ничто. Уже достаточно часто первый давал понять, что ему не по нутру непринужденная манера обращения старика: если бы это зависело от него, то никто вокруг не болтался бы в гражданских шмотках, а все носили бы только форму, как он сам.
С быстротой молнии распространяется новость, о которой рассказал вахтенный: по УКВ-связи он разговаривал с вахтенным другого корабля, который шел как раз из Дурбана, и который предупредил его, что в Дурбане больше нельзя сходить на берег в одиночку. Нападения на моряков стали обычным явлением. Где бы я не оказался на корабле, везде обсуждается эта дурная весть. Важная тема во время обеда за всеми столами. Старик также выглядит расстроенным. Он говорит:
— Веселенькое дело. До сих пор Дурбан считался абсолютно надежным городом.
— И что ты можешь сделать? — спрашиваю я.
— А что я должен делать? У военных моряков в таком случае запрещалось увольнение на берег, все было просто. Но здесь? Не могу же я запретить людям сойти на берег.
— А это и не обязательно, — пытаюсь я успокоить старика. — Паникерство! — Когда же я еще говорю: — Во всяком случае, хорошая тема на следующие десять дней, а в сомнительном случае ты установишь щиты с предупреждением о тифе — творит чудеса!
Лицо старика светлеет и он спрашивает:
— Ты имеешь в виду на корабле?
— Ну, конечно! В таком случае людям не разрешается сходить на берег, а ты избавляешься от заботы о проведении вечеринки.
— Это было бы прекрасно, — говорит старик мечтательно и принимает городимую мной чушь всерьез: — Переждем, а пока выпьем чаю, — например, через час в моей каюте?
![Подлодка [Лодка] - Буххайм Лотар-Гюнтер (электронные книги бесплатно .txt) 📗](/uploads/posts/books/4937/4937.jpg)