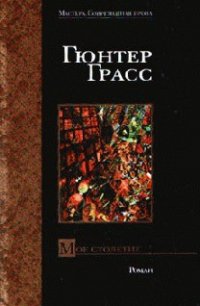Прощание - Буххайм Лотар-Гюнтер (бесплатные серии книг .TXT) 📗
— А что в этой ситуации должен делать я? — спрашивает старик. — Я же не могу обследовать фроляйн Зандман, я — не врач. Я не могу определить, что у нее. Если врач выпишет ей бюллетень, то она, собственно, может не работать, но это вы и так знаете. А что касается выполнения работы, то здесь компетентен казначей. И об этом вы знаете. Так что?
Проходит какое-то время, и трое мужчин, смущенно переглянувшись, уходят растерянные.
После того как они ушли, старик шумно выдыхает воздух и говорит:
— Ну, вот видишь.
— Теперь мне интересно, — говорю я, — что еще учудит дамочка, чтобы добиться своего. Похоже, что для нее это обычное дело.
— Для меня загадка, как это ей удалось попасть на корабль. После того как я познакомился с ней более детально, я считаю, что даже самый непритязательный кадровик не мог не заметить, что с ней не все в порядке.
Бумаги, которые почта доставила мне за неделю до моего отъезда, я не читая сложил в дорожную сумку. Теперь я наслаждаюсь, разбирая все это: группа мюнхенских издателей встречается в ресторане «Петергоф» — обнародование решения назначено на 15 июля. «Во вторник в 20.15 мы открываем выставку „Face Farces“. Мы просим вас заполнить и отослать обратно прилагаемую карточку». «Чтобы вы имели возможность спокойно посмотреть коллекцию накануне открытия, мы позволили себе пригласить вас на небольшой прием» — и то же самое на французском и английском языках: «Nous avons le plaisir de vous invite a nous rendre visite a la Foire de Francfort». «We are happy to invite you to the Frankfurt Fair, where we will be glad to show you the newest items in our collection». И так далее. Чем больше я читаю и отправляю в корзину для бумаг, тем более улучшается мое самочувствие. Здесь меня не достанут ни через «Норддайхрадио», ни через «Шевенинген-радио». Я чувствую себя человеком, перехитрившим Бога и целый мир: я сбежал! Только глубоко в затылке звучат несколько самобичеваний, полусозревших упреков, тихо журчащие призывы к порядку. Но со всем этим можно жить!
Я беру мою фотокамеру, насаживаю на нее телеобъектив и делаю снимки моря в контровом свете, чтобы все выглядело более рельефно. Некоторые с красным фильтром, чтобы получить сочный черно-белый переход: переведенные в графику картинки. У меня уже сотни таких. На некоторых, на первый взгляд, трудно понять, что изображено — вода или небо. Пенистые скопления волн, расходящихся от носа корабля, я уже фотографировал как облака. Вода, смешанная с водой, вода, насыщенная воздухом, это почти одно и то же. Мое короткое экспонирование или открывание затвора в пределах двух тысячных секунды, создает формы, которые более инертный глаз не видит, праландшафты из черно-белых стилизованных водяных гор, стоящие в воздухе причудливые гребни, застывшие взрывы, страшно разорванные на куски, какие получаются при выплавливании свинца.
Еще никогда я не был так захвачен узорами воды на море, как на этот раз. Не желая полностью признаться в этом, я прибегаю к помощи природы. Расщепление ядра, упрекаю я себя, является также природным явлением, но оно недоступно моему пониманию.
— Я еще раз подумал, — говорит старик за обедом, — твою «прописку» сегодня вечером мы проведем лучше всего в холле — ты как думаешь?
— Мне все подходит, — говорю я преданно и думаю, когда же наконец эта проклятая вечеринка со всеми ее проблемами уйдет в прошлое. Но старик не оставляет эту тему: — С кладовщиком я все обговорил — здесь все получится. И затея с пивом, думаю, на самом деле наилучшая.
Я киваю и спрашиваю:
— И где я должен внести мой взнос?
— Это ты сделаешь завтра с казначеем, когда мы будем знать, выпита ли вторая бочка пива. Ты от нас не сбежишь, — добавляет он, ухмыляясь.
Кернер и первый помощник капитана беседуют за соседним столиком об антиавторитарных детских садах. Кернеру эта тема кажется не особенно привлекательной, и он отвечает односложно, ссылаясь на отсутствие опыта. Когда к ним подсаживается шеф, первый помощник сразу же задает ему вопрос: «А вы какого мнения об антиавторитарности в детском возрасте?»
— Никакого! — отвечает шеф резко. — Проказники должны вовремя учиться, где только можно. — И приступает к еде.
Так как в поисках поддержки, — очевидно, это важная для него тема, — первый помощник оглядывается по сторонам, я спрашиваю: «Сколько у вас детей?»
— Один мальчик, — говорит первый помощник с гордостью.
— И сколько ему лет?
— Пять месяцев.
— Боже мой. Так у вас еще достаточно времени.
— Мне бы ваши заботы, — говорит шеф, прекращая жевать, — сейчас-то речь идет пока о памперсах, или как они там называются, эти новомодные пеленки.
— Может же человек, в конце концов, о чем-то подумать, — обиженно говорит первый помощник.
— Приятного аппетита! — прерывает разговор старик и поднимается со своего места с обычным заявлением, что «пора и немножко подумать».
После обеда старик стучит в мою дверь и спрашивает:
— Поднимешься со мной на мостик?
— Лучше нет. Еще раз лицезреть фрау Шмальке в ее красной блузе — на сегодня достаточно!
— В общем, ты прав. На сегодня достаточно и для меня. Я сейчас как раз занимаюсь рулевым.
— И?
— Чертовски трудный орешек. При этом, уговаривая его, я заливался соловьем: «Через полтора года вы с Божьей помощью будете третьим штурманом, и тогда неприятности со строптивыми людьми будете иметь уже вы. Вы что, об этом не думаете?» Нет, он не думает об этом — и уж тем более о том, чтобы извиниться перед третьим помощником капитана. К счастью, он все равно хотел увольняться, сказал он, чтобы пойти учиться. У него в запасе еще полтора месяца, и на это время он хочет наняться на какой-нибудь каботажник.
— А что с ним будет до прибытия в порт назначения?
— Спущу на тормозах! — говорит старик. — Я же не могу уволить его без предварительного уведомления и везти как пассажира — у него же нет денег. Вот тебе типичный пример: алкоголь и неправильная работа с персоналом. У третьего помощника хотя и имеется патент для дальнего плавания, но нет практики. Вечером была общая попойка в смешанном обществе. Человек уже был пьяным, когда пришел на вахту, и третий помощник это заметил. Он должен был отослать его назад. Вместо этого он вытолкал его на нок мостика, чтобы он протрезвел.
— У тебя уже совершенно высохло горло от стольких речей, — говорю я, так как старик выглядит очень недовольным, — не хочешь ли выпить сок грейпфрута?
— Нет. Пойдем в мою каюту. Я прикажу принести чай. Чай с приличной добавкой рома, сейчас мне это нужно.
— Что ты ухмыляешься, — спрашивает старик, поставив на стол чашку, в которой было больше рома, чем чая, и подливая еще.
— Я думаю о молоке.
— Именно о молоке?
— Да, так как обычно я пью чай, добавляя молоко.
— Захватывающе. Но почему при этом надо ухмыляться?
— Сейчас поймешь. Начну по-другому. В лагере для перемещенных лиц, о котором я тебе рассказывал, должен был играть еврейский театр на идише, и им нужны были кулисы. Искали художника, и тогда я сказал: «Я — художник!» и сделал набросок кулис. Но материала для кулис не было. Кое-какие порошковые краски я раздобыл, но не было вяжущего материала. Я объяснил труппе, что мне нужно сухое молоко, причем много сухого молока, — в качестве вяжущего средства. Я получил то, что хотел, и затем жил практически за счет американского сухого молока. Молочный порошок можно было хорошо обменивать.
— Хитро! — старик наконец удобно уселся в кресле и налил нам обоим в чашки еще ром — без чая.
— В то время я бросал завистливые взгляды в наполовину распечатанные продовольственные пакеты с благотворительной помощью.
— Я тоже, — говорит старик, — чего там только не было!
— Я вспоминаю, как один из откормленных американских поваров вытряхивал в большую алюминиевую сковороду ананасы из больших консервных банок — такого я никогда не забуду. В этих алюминиевых сковородках поджаривалось сало с мясными прослойками. И этот кухонный громила энергично помешивал сало и ананасы: ананасы должны были убрать привкус соли. Потом он выуживал ломтики ананаса и швырял их в помойное ведро! Для меня это было непостижимо. Десять лет я вообще не видел ананасов! Это мое самое сильное воспоминание времен оккупации.
![Подлодка [Лодка] - Буххайм Лотар-Гюнтер (электронные книги бесплатно .txt) 📗](/uploads/posts/books/4937/4937.jpg)