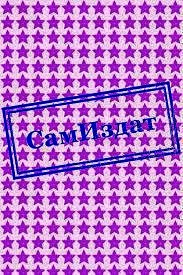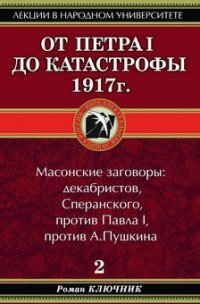Два капитана - Каверин Вениамин Александрович (онлайн книга без txt) 📗
Впрочем, было еще не так поздно — около двенадцати. Ребята еще болтали. Валя что—то писал, сидя на кровати с поджатыми ногами.
— Саня, тебя просил зайти Иван Павлыч, — сказал он. — Если ты придешь до двенадцати. Сейчас который?
— Половина.
— Вали!
Я накинул пальто и побежал к Кораблеву.
Это был необыкновенный и навсегда запомнившийся мне разговор, — и я должен передать его совершенно спокойно. Я не должен волноваться, особенно теперь, когда, прошло так много лет. Разумеется, все могло быть иначе. Все могло быть иначе, если бы я понял, какое значение имело для нее каждое мое слово, если бы я мог предположить, что произойдет после нашего разговора… Но этих «если бы» — без конца, а мне не в чем ни оправдываться, ни виниться. Итак, вот этот разговор.
Когда я пришел к Кораблеву, у него была Марья Васильевна. Она просидела у него весь вечер. Но она пришла не к нему, а ко мне, именно ко мне, и с первых же слов сказала мне об этом.
Она сидела выпрямившись, с неподвижным лицом и иногда поправляла узкой рукой прическу. На столе стояло вино и печенье, и Кораблев наливал и наливал себе, а она только раз пригубила и так и не допила свою рюмку. Все время она курила, и везде был пепел — и у нее на коленях. Знакомая коралловая нитка была на ней, и несколько раз она слабо оттянула ее — как будто нитка ее душила. Вот и все.
— Штурман пишет, что не рискует посылать это письмо почтой, — сказала она. — А между тем оба письма оказались в одной почтовой сумке. Как ты это объясняешь?
Я отвечал, что не знаю и что об этом нужно спросить штурмана, если он еще жив.
Марья Васильевна покачала головой.
— Если бы он был жив!
— Может, его родные знают. Потом, Марья Васильевна, — сказал я с неожиданным вдохновением, — ведь штурмана подобрала экспедиция лейтенанта Седова. Вот кто знает. Он им все рассказал, я в этом уверен.
— Да, может быть, — отвечала Марья Васильевна.
— Потом этот пакет для Гидрографического управления. Ведь если штурман отправил письма почтой, наверно, он и пакет той же почтой отправил. Нужно узнать.
Марья Васильевна снова сказала:
— Да.
Я замолчал. Я один говорил, Кораблев еще не проронил ни слова. Я не могу объяснить, с каким выражением он смотрел на Марью Васильевну. Вдруг он вставал из—за стола и начинал расхаживать по комнате, сложив руки на груди и приподнимаясь на цыпочках. Он был очень странный в этот вечер — какой—то летящий, точно на крыльях. Так и казалось, что усы его сейчас распушатся под ветром. Мне это не нравилось. Впрочем, я понимал его: он радовался, что Николай Антоныч оказался таким негодяем, гордился, что предсказал это, немного боялся Марьи Васильевны и страдал, потому что она страдала. Но больше всего он радовался, и это было мне почему—то противно.
— Что же ты делал в Энске? — вдруг спросила меня Марья Васильевна. — У тебя там родные?
Я отвечал, что — да, родные. Сестра.
— Я очень люблю Энск, — заметила Марья Васильевна, обращаясь к Кораблеву. — Там чудесно. Какие сады! Я потом уже не бывала в садах, как уехала из Энска.
И она вдруг заговорила об Энске. Она зачем—то рассказала, что у нее там живут три тетки, которые не верят в бога и очень гордятся этим, и что одна из них окончила философский факультет в Гейдельберге. Прежде она не говорила так много. Она сидела бледная, прекрасная, с блестящими глазами и курила, курила.
— Катя говорила, что ты вспомнил еще какие—то фразы из этого письма, — сказала она, вдруг забыв о тетках, об Энске. — Но я никак не могла от нее добиться, что это за фразы.
— Да, вспомнил.
Я ждал, что она сейчас попросит меня сказать эти фразы, но она молчала, как будто ей страшно было услышать их от меня.
— Ну, Саня, — бодрым фальшивым голосом произнес Кораблев.
Я сказал:
— Там кончалось: «Привет от твоего…» Верно?
Марья Васильевна кивнула.
— А дальше было так: «…от твоего Монготимо Ястребиный Коготь…»
— Монготимо? — с изумлением переспросил Кораблев.
— Да, Монготимо, — повторил я твердо.
— «Монтигомо Ястребиный Коготь», — сказала Марья Васильевна, и в первый раз голос у нее немного дрогнул. — Я его когда—то так называла.
Может быть, теперь это кажется немного смешным, что капитана Татаринова она называла «Монтигомо Ястребиный Коготь». Особенно мне смешно, потому что я теперь знаю о нем больше, чем кто—нибудь другой на земном шаре. Но тогда это ничуть не было смешно — этот все время спокойный и вдруг задрожавший голос.
Между прочим, оказалось, что это имя совсем не из Густава Эмара, как думали мы с Катей, а из Чехова. У Чехова есть такой рассказ, в котором какой—то рыжий мальчик все время называет себя Монтигомо Ястребиный Коготь.
— Хорошо, Монтигомо, — сказал я. — А мне помнится — Монготимо… «как ты когда—то меня называла. Как это было давно, боже мой! Впрочем, я не жалуюсь. Мы увидимся, и все будет хорошо. Но одна мысль, одна мысль терзает меня». «Одна мысль» — два раза, это не я повторил, а так и было в письме — два раза.
Марья Васильевна снова кивнула.
— «Горько сознавать, — продолжал я с выражением, — что все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас, и первая неудача — ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно, — та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю».
Может быть, я напрасно сделал ударение на последнем слове, потому что Марья Васильевна, которая была очень бледна, побледнела еще больше. Уже не бледная, а какая—то белая, она сидела перед нами и все курила, курила. Потом она сказала совсем странные слова — и вот тут я впервые подумал, что она немного сумасшедшая. Но я не придал этому значения, потому что мне казалось, что и Кораблев был в этот вечер какой—то сумасшедший. Уж он—то, он—то должен был понять, что с ней происходит! Но он совсем потерял голову. Наверное, ему уже мерещилось, что Марья Васильевна завтра выйдет за него замуж.
— После этого заседания Николай Антоныч заболел, — сказала она, обращаясь к Кораблеву. — Я предложила позвать доктора — не хочет. Я не говорила с ним об этих письмах. Тем более, он такой расстроенный. Не правда ли, пока не стоит?
Она была подавлена, поражена, но я все еще ничего не понимал.
— Ах, вот как, не стоит! — возразил я. — Очень хорошо. Тогда я сам это сделаю. Я пошлю ему копию. Пусть почитает.
— Саня! — как будто очнувшись, закричал Кораблев.
— Нет, Иван Павлыч, я скажу, — продолжал я. — Потому что все это меня возмущает. Факт, что экспедиция погибла из—за него. Это — исторический факт. Его обвиняют в страшном преступлении. И я считаю, если на то пошло, что Марья Васильевна, как жена капитана Татаринова, должна сама предъявить ему это обвинение.
Она была не жена, а вдова капитана Татаринова. Она была жена Николая Антоныча и, стало быть, должна была предъявить это обвинение своему мужу. Но и это до меня не дошло.
— Саня! — снова заорал Кораблев.
Но я уже замолчал. Больше мне не о чем было говорить. Разговор наш еще продолжался, но говорить было больше не о чем. Я только сказал, что земля, о которой говорится в письме, это Северная Земля и что, стало быть, Северную Землю открыл капитан Татаринов. Но странно прозвучали все эти географические слова «Долгота, широта» здесь, в этой комнате, в этот час. Кораблев все метался по комнате, Марья Васильевна все курила, и уже целая гора окурков, розовых от ее накрашенных губ, лежала в пепельнице перед нею. Она была неподвижна, спокойна, только иногда слабо потягивала коралловую нитку на шее; точно эта широкая нитка ее душила. Как далека была от нее Северная Земля, лежащая между какими—то меридианами!
Вот и все. Прощаясь, я пробормотал еще что—то, но Кораблев, нахмурясь, пошел прямо на меня, так что я как—то незаметно оказался за дверью.
Глава 21.
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА.
Больше всего меня удивило, что Марья Васильевна ни словом не обмолвилась о Кате. Мы с Катей провели в Энске девять дней. А Марья Васильевна не сказала об этом ни слова.