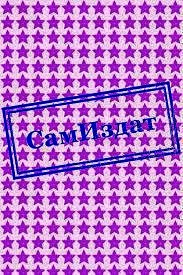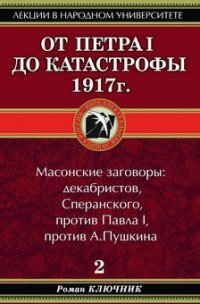Два капитана - Каверин Вениамин Александрович (онлайн книга без txt) 📗
Он вытер кулаком глаза и радостно, глубоко вздохнул.
— Валька, что случилось?
— Ничего особенного. Я в последнее время занимался змеями, и мне удалось доказать одну интересную штуку.
— Какую штуку?
— Изменение крови у гадюк в зависимости от возраста.
Я посмотрел на него с изумлением. Плакать от радости, что кровь у гадюк меняется в зависимости от возраста? Это не доходило до моего сознания.
— Поздравляю, — сказал я. — Мне нужно с тобой поговорить. Как ты? В состоянии?
— В состоянии.
Мы прошли к мышам.
— Ты знаешь, что меня хотят исключить из школы?
Должно быть, Валька знал об этом, но совершенно забыл, потому что он сперва широко открыл глаза, а потом хлопнул себя по лбу и сказал:
— Ах, да! Знаю!
— Это обсуждалось на бюро?
У меня был немного хриплый голос. Валька кивнул.
— Решили подождать, пока ты вернешься.
У меня отлегло от сердца.
— Ты написал насчет Ромашки в ячейку?
Валька отвел глаза.
— Видишь ли, — пробормотал он, — я не написал, а просто сказал ему, что если он еще будет приставать, тогда напишу. Он сказал, что больше не будет.
— Вот как! Значит, тебе наплевать, что меня исключают из школы?
— Почему? — с ужасом спросил Валька.
— Потому, что ты один мог бы подтвердить, что я бил его не только по личным причинам. А ты трус, и эта трусость переходит в подлость. Ты просто боишься за меня заступиться!
Это было жестоко — говорить Вале такие слова. Но я был страшно зол на него. Я считал, что Ромашка — общественно—вредный тип, с которым нужно бороться.
— Я сегодня подам, — упавшим голосом сказал Валька.
— Ладно, — отвечал я сухо. — Только имей в виду, я тебя об этом не прошу. Я только считаю, что это твой долг как комсомольца. А теперь вот что: тебя просил зайти Кораблев.
— Когда?
— Сейчас.
Он стал клянчить хоть четверть часа, чтобы покормить какую—то пятнистую жабу, но я, не слушая, надел на него пальто и отвез к Кораблеву…
Очень сердитый, он вернулся через полчаса и долго сопел, гладя себя по носу пальцем. Оказывается, Кораблев спросил его, правда ли, что он не любит, когда на него смотрят ночью. Это его поразило.
— И я не понимаю, откуда он это узнал! Это ты сказал ему, скотина?
— Нет, не я, — соврал я.
— Главное, он спрашивает: «А если на тебя смотрят с любовью?»
— Ну?
— Я сказал, что «тогда не знаю…»
В половине шестого за мной пришел сторож.
— Григорьев, пожалуйста, просят на педсовет, вежливо сказал он.
Глава 18.
СЖИГАЮ КОРАБЛИ.
Это было самое обыкновенное заседание в нашей тесной учительской, за столом, покрытым синей суконной скатертью с оборванными кистями. Но мне казалось, что все смотрят на меня с каким—то таинственным, значительным видом. Серафима была в ботах, и даже это смутно представлялось мне какой—то загадкой. Кораблев смеялся, когда я вошел, и я подумал: «Нарочно!»
— Ну—с, Григорьев, — мягко начал Николай Антоныч, — ты, разумеется, знаешь, по какому поводу мы вызвали тебя на это заседание. Ты огорчил нас — и не только нас, но, можно сказать, всю школу. Огорчил дикими поступками, недостойными человеческого общества, в котором мы живем и развитию которого должны способствовать по мере своих сил и возможностей.
Я сказал:
— Прошу мне задавать вопросы.
— Николай Антоныч, позвольте, — живо сказал Кораблев. — Григорьев, расскажи, пожалуйста, где ты провел эти девять дней, с тех пор как убежал из дому?
— Я не убежал, а уехал в Энск, — отвечал я хладнокровно. — Там живет моя сестра, которую я не видел около восьми лет. Это может подтвердить судья Сковородников, у которого я останавливался, — Гоголевская, тринадцать, дом бывший Маркузе.
Если бы я прямо сказал: эти девять дней были проведены с Катей Татариновой, которую отправили в Энск, чтобы мы хоть на каникулах не встречались, — и тогда мои слова не произвели бы большего впечатления на Николая Антоныча! Он побледнел, замигал и кротко наклонил голову набок.
— Почему же ты никого не предупредил о своем отъезде? — спросил Кораблев.
Я отвечал, что считаю себя виновным в нарушении дисциплины и даю обещание, что этого больше не будет.
— Прекрасно, Григорьев, — сказал Николай Антоныч. — Вот это прекрасный ответ. Остается пожелать, чтобы ты так же удовлетворительно объяснил и другие свои поступки.
Он ласково смотрел на меня. У него было удивительное самообладание.
— Теперь расскажи нам о том, что у тебя произошло с Иваном Витальевичем Лихо.
До сих пор не могу понять, почему, рассказывая историю своих отношений с Лихо, я ни словом не упомянул об «идеализме». Должно быть, я считал, что раз Лихо снял это обвинение, нечего о нем и говорить. Это было страшной ошибкой. Кроме того, не стоило упоминать, что я пишу сочинения без «критиков». Это никому не понравилось. Кораблев нахмурился и положил руку на стол.
— Критики ты, значит, не любишь? — кротко сказал Николай Антоныч. — Что же ты сказал Ивану Витальевичу? Повтори дословно.
Перед всем педагогическим советом повторить то, что я сказал Лихо! Это было невозможно! Не будь Лихо такой болван, он сам отвел бы этот вопрос. Но он только смотрел на меня с торжествующим видом.
— Ну—с! — провозгласил Николай Антоныч.
— Николай Антоныч, позвольте мне, — возразил Кораблев. — Нам известно, что он сказал Ивану Витальевичу. Хотелось бы знать, чем Григорьев объясняет свое поведение.
— Виноват, виноват, — сказал Лихо. — А я требую, чтобы он повторил! Я даже в школе Достоевского, от дефективных, таких вещей не слышал.
Я молчал. Если бы я умел читать мысли на расстоянии, то, верно, прочитал бы у Кораблева в глазах: «Саня, скажи, что ты обиделся за „идеализм“. Но я не умел.
— Ну! — снисходительно повторил Николай Антоныч.
— Не помню, — пробормотал я.
Это было глупо, потому что всем сразу стало ясно, что я соврал. Лихо зафыркал.
— Сегодня он меня за плохую отметку обругал, а завтра зарежет, — сказал он. — Хулиганство какое!
Мне снова, как тогда на лестнице, захотелось ударить его ногой, но я, разумеется, удержался. Стиснув зубы, я молчал и смотрел на руку Кораблева. Рука поднялась, слегка похлопала по столу и спокойно легла на прежнее место.
— Конечно, сочинение плохое, — сказал я, стараясь не волноваться и думая с ненавистью о том, как бы выбраться из этого глупого положения. — Может быть, не на «чрезвычайно слабо», потому что такой отметки вообще нет, но я сознаю, что неважное. В общем, если совет постановит, чтобы я извинился, я, ладно, извинюсь.
Очевидно, и это было глупо. Все зашумели, как будто я сказал невесть что, и Кораблев взглянул на меня с откровенной досадой.
— Да, Григорьев, — неестественно улыбаясь, сказал Николай Антоныч. — Стало быть, ты готов извиниться перед Иваном Витальевичем только в том случае, если по этому поводу состоится постановление совета. Иными словами, ты не считаешь себя виновным. Ну что ж! Примем к сведению и перейдем к другому вопросу.
«…Рисковать своим будущим ради мелкого самолюбия», — припомнилось мне.
— Извиняюсь, — повернувшись к Лихо, сказал я неловко.
Но Николай Антоныч уже снова заговорил, и Лихо сделал вид, что не слышит.
— Скажи, Григорьев: вот ты дико избил Ромашова. Ты бил его ногами по лицу, причинив таким путем тяжкие увечья, заметно отразившиеся на здоровье твоего товарища Ромашова. Чем ты объясняешь это поведение, неслыханное в стенах нашей школы?
Кажется, больше всего я ненавидел его в эту минуту за то, что он говорил так длинно и кругло. Но рука Кораблева выразительно поднялась над столом, и я перестал волноваться.
— Во—первых, я не считаю Ромашова своим товарищем. Это было бы для меня позором — такой товарищ! Во—вторых, я ударил его только один раз. А в—третьих, что—то незаметно, что у него стало плохое здоровье.