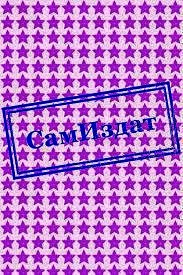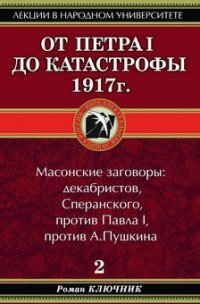Два капитана - Каверин Вениамин Александрович (онлайн книга без txt) 📗
— Вот как! Что теперь мать?
Должно быть, обижалась, что Марья Васильевна не посоветовалась с ней, прежде чем отказать Кораблеву…
Гости разошлись, а я все не мог решить — что делать?
Это было дьявольски неудачно, что именно в этот день Кораблев пришел со своим предложением. Сидел бы лучше дома. Тогда я мог бы рассказать Марье Васильевне все, что услышал. А теперь неудобно, даже невозможно: она не вышла к обеду, заперлась и никого не пускала. Катя засела за уроки. Нина Капитоновна вдруг объявила, что с ног падает — хочет спать, сейчас же легла и заснула. Я вздохнул, простился и пошел домой.
Глава 10.
«ОТВЕТ С ОТКАЗОМ»
Дежурный по детдому, хромой Яфет, уже дважды приходил смотреть, спим мы или бузим, все ли легли.
Ночная лампочка зажглась в коридоре. У Вальки Жукова веки вздрагивали во сне, как у собаки, — уж не снились ли ему его собаки? Ромашка храпел. Только я не спал, все думал.
Одна мысль смелее другой. Вот на школьном коллективе я выступаю против Николая Антоныча и открываю перед всеми подлый план изгнания Кораблева из школы. Вот я пишу Кораблеву письмо… Я стал сочинять письмо и заснул…
Очень странно, но, проснувшись (раньше всех), я продолжал сочинять это письмо как раз с того места, на котором остановился накануне. Вот когда пригодился бы мне Петькин письмовник! Я стал вспоминать письма, которые мы читали. «Ответ с отказом»: «Выраженные вами чувства чрезвычайно лестны для меня…» Не годится!
«Письмо благодарственное за благосклонный прием» тоже не годилось, равно как и «Письмо с требованием должной суммы». «Письмо от вдовца к девице» я забыл. Впрочем, и оно не годилось, тем более, что я не был вдовцом, а Кораблев — девицей.
Наконец я решился.
Было еще очень рано — восьмой час, на улицах темно, как ночью. Понятно, это меня не остановило. Остановить меня попробовал хромой Яфет, но я вывернулся и удрал с черного хода.
Кораблев жил в Воротниковском переулке, в деревянном одноэтажном флигеле со ставнями и верандой, похожем на дачу. Почему—то я был уверен, что он не спит. Ясно, не мог спать человек, который вчера получил от Марьи Васильевны «ответ с отказом». И он, правда, не спал. В комнате горел свет, он стоял у окна и смотрел во двор — так пристально и с таким вниманием, как будто во дворе происходили бог весть какие необыкновенные вещи. Так пристально и с таким вниманием, что долгое время не замечал меня, хотя я стоял под самым окном и делал знаки руками.
— Иван Павлыч!
Но Иван Павлыч зажмурился, тряхнул головой и ушел.
— Иван Павлыч, откройте, это я!
Он вернулся через несколько минут, накинув пальто, и вышел на веранду.
— Это я, Григорьев, — повторил я, испугавшись, что он забыл меня. Он смотрел как—то странно. — Я к вам пришел и сейчас расскажу одну штуку. Театр хотят закрыть, а вас… — Кажется, я не сказал «прогнать». А может быть, и сказал, потому что он вдруг очнулся.
— Зайди, — коротко сказал он.
Всегда у него было очень чисто, книги на полках, кровать под белым одеялом, на подушке — накидка. Все в порядке. Не в порядке сегодня был, кажется, только сам хозяин. То он щурился, то широко раскрывал глаза — как будто все перед ним расплывалось. Без сомнения, он не ложился в эту ночь. Таким усталым я его еще не видел.
— А, Саня, — нетвердо сказал он. — В чем дело?
— Иван Павлыч, я хотел вам письмо написать, — ответил я с жаром. — Вообще вопрос упирается в школьный театр. Про вас говорят, что вы заморили жену.
— Постой! — он засмеялся. — Кто говорит, что я заморил жену?
— Все. «Нам нет дела до причин гибели его покойной жены. Вульгаризация идей — вот что нас возмущает».
— Ничего не понимаю, — серьезно сказал Кораблев.
— Да, вульгаризация, — повторил я твердо.
Еще с вечера я твердил эти слова: «вульгаризация», «популярность» и «лаояпьный долг». «Вульгаризацию» сказал, теперь остались «популярность» и «лаояльный долг».
— «На собраниях он проливает крокодиловы слезы», — продолжал я торопливо. — «Эту крайне вредную затею он провел, чтобы захватить популярность». Да, «популярность». «Он подлизался к советской власти». «Мы должны выполнить наш лаояльный долг».
Может быть, я что—нибудь и перепутал. Но мне легче было повторить наизусть все, что я накануне слышал, чем рассказать своими словами. Во всяком случае, Кораблев понял меня. Он отлично понял меня. Глаза его вдруг потеряли прежнее расплывчатое выражение, легкая краска проступила на щеках, и он быстро прошелся по комнате.
— Это весело, — пробормотал он, хотя ему было совсем не весело. — А ребята, значит, не хотят, чтобы театр закрыли?
— Ясно, не хотят.
— И ты из—за театра пришел?
Я промолчал. Может быть, из—за театра. А может быть, потому, что без Кораблева в школе стало бы скучно. Может быть, потому, что мне не понравилось, что они так подло сговаривались вытурить его из школы…
— О, дураки, — неожиданно сказал Кораблев, — скучнейшие в мире!
Он крепко пожал мне руку и опять стал задумчиво ходить из угла в угол. Так—то расхаживая, он вышел, должно быть, на кухню, принес кипятку, заварил чай, достал из стенного шкафчика стаканы.
— Хотел уехать, а теперь решил остаться, — объявил он. — Будем воевать. Верно, Саня? А пока выпьем—ка чаю.
Не знаю, состоялось ли заседание школьного совета, на котором Кораблев должен был сурово расплатиться за «вульгаризацию идеи трудового воспитания». Очевидно, не состоялось, потому что он не расплатился. Каждое утро, как ни в чем не бывало, «Усы» расчесывал перед зеркалом усы и шел на урок…
Через несколько дней театр объявил новую постановку: «На всякого мудреца довольно простоты», и роль мудреца играл Гришка Фабер. По роли — ему лет двадцать пять, но он предпочел играть человека средних лет, с лысиной и золотыми зубами. Все время он барабанил пальцем по столу, как Николай Антоныч, и вообще играл бы очень хорошо, если бы не так орал.
Из райкома комсомола пришли два черных курчавых мальчика и предложили организовать в нашей школе комсомольскую ячейку. Валька спросил с места, можно ли записываться детдомовцам, и, они ответили, что можно, но только начиная с четырнадцати лет. Я сам не знал, сколько мне лет. По моим расчетам выходило — скоро тринадцать. На всякий случай я сказал, что четырнадцать. Но мне все—таки не поверили. Быть может, потому, что я был тогда очень маленького роста.
Из педагогов на этом собрании были только Кораблев и Николай Антоныч. Кораблев сказал довольно торжественную речь, сперва коротко поздравил нас с ячейкой, а потом долго ругал за то, что мы плохо учимся и хулиганим. Николай Антоныч тоже сказал речь. Это была прекрасная речь — он приветствовал представителей райкома, как молодое поколение, и в конце прочитал стихотворение Некрасова «Идет—гудет Зеленый Шум». Странно было только, что, произнося эту речь, он вдруг громко затрещал пальцами, как будто ломая руки. При этом у него было очень веселое лицо, и он даже улыбался.
После собрания я встретил его в коридоре и сказал: «Здравствуйте, Николай Антоныч!» Но он почему—то не ответил.
Словом, все было в порядке, и я сам не знал, почему, собираясь к Татариновым, я вдруг решил, что не пойду, а лучше завтра встречу Катю на улице и на улице отдам ей стек и глину — она просила. Не прошло и получаса, как я передумал.
Мне открыла старушка и как—то придержала цепочкой двери, когда я хотел войти. Казалось, она раздумывала, впустить меня или нет. Потом она распахнула двери, шепнула мне быстро: «Иди на кухню», и легонько толкнула в спину.
Я замешкался — просто от удивления. В эту минуту Николай Антоныч вышел в переднюю и, увидев меня, зажег свет.
— А—а! — каким—то сдавленным голосом сказал он. — Явился.
Он больно схватил меня за плечо.
— Неблагодарный доносчик, мерзавец, шпион! Чтобы твоей ноги здесь не было! Слышишь?
Он злобно раздвинул губы, и я увидел, как ярко заблестел у него во рту золотой зуб. Но это было последнее, что я видел в доме Татариновых. Одной рукой Николай Антоныч открыл двери, а другой выбросил меня на лестницу, как котенка.