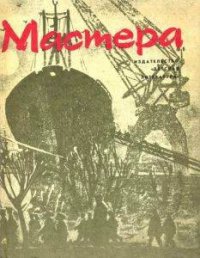Семь футов под килем - Миксон Илья Львович (полная версия книги TXT) 📗
Если бы он был в ту минуту там! Броситься на помощь, подхватить оседающего, залитого кровью Костю. «Коська! Друг! Живи, Коська! Живи!»
А Костя ответил бы, наверное, умирающим голосом блокадного мальчика: «Поздно, Вась… конец».
Николаев так живо представил себе последний разговор с другом, разговор, который не был и уже никогда не мог состояться, что на лбу выступила испарина. Он покрутил головой. Плакать Николаев не мог: разучился в блокадные дни и ночи.
В детдоме на Урале Вася Николаев и Костя Смирнов уже не рисовали якоря на запястьях, но остались мечта, клятва, верность намеченной цели жизни.
Константин стал механиком, Василий — радистом. Друзья плавали одну навигацию вместе, затем морская служба разъединила их.
Годами не встречались, только и обменивались праздничными телеграммами и радиограммами.
Когда у Кости с Мариной родился первый сын, Лёшка, Николаева, как ближайшего друга, объявили названым отцом. Но Николаев впервые увидел своего крестника, когда тот уже топал по комнате. Потом появился Дима. Костя был счастливым отцом.
И вот эти шесть строк… Военный лётчик с американского самолёта «Фантом» сбросил бомбу за много тысяч миль от берегов Америки.
Советский теплоход доставил во Вьетнам одежду и хлеб для городов и селений, уничтоженных напалмом. Доставил с трудом и риском, почти как доставляли когда-то в осаждённый Ленинград продовольствие по Ладожской «Дороге жизни».
«А Костина семья! — горько подумал Николаев, и сердце его сжалось. — Им каково? Жене — вдове теперь, детям — сиротам отныне, Лёшке и Диме. Конечно, Лёшке уже восемнадцатый пошёл, а всё равно не взрослый».
Николаев рывком поднялся с дивана. Пока нагревались лампы передатчика, заполнил бланк радиограммы. Перечитал, скомкал. Написал заново. Опять не то!
— Словами не поможешь, — сказал вслух Николаев. — Отпуск надо брать.
Глава первая
КАЛЫШКА
— Отдать кормовой!
Загудела лебёдка. Продольный швартовый обвис дугой, и двое на причале стянули с лобастой головы кнехта толстую петлю.
Последний трос, связывавший судно с берегом, плюхнулся в воду.
— Вирай!
Конец спешно вытянули на палубу.
Портовый буксир натужно вскрикнул и потащил судно от пирса. Тёмная полоса между кормой и стенкой расширилась, заиграла отражёнными огнями.
Второй штурман перегнулся через оградительную цепь, посмотрел на воду и доложил в микрофон на капитанский мостик:
— Корма чисто!
В ответ прозвучал охрипленный мегафоном голос:
— Хорошо.
Лёшка стоял поодаль от работавших. От его помощи отказались. Он обиделся, но промолчал.
Отход судна, как и швартовка, момент серьёзный. Не до просвещения новичков, только поспевай выполнять команды, несущиеся из динамика, и приказы второго штурмана, который находится здесь же, на корме. И старший матрос рядом. Распоряжения следуют одно за другим, промедление недопустимо, и без твёрдых навыков, без опыта не управиться.
У Лёшки не было ни навыков, ни трудового опыта. Официально он палубный практикант, а на самом деле всего-навсего матросский ученик. Настоящие занятия начнутся, наверное, завтра. Сейчас тоже урок, но, как выразился боцман, оглядный.
Лёшка и стоял без дела, стоял и глядел. Никто не обращал на него внимания. Лёшка тихо удалился. Он прошёл на нос и поднялся на полубак.
Матросы сматывали на барабан вьюшки тонкий стальной трос. «Шпринг», — отметил про себя Лёшка. Что-что, а морские термины он усвоил с детства. Отец даже дома называл лестницу трапом, порог — комингсом, пол — палубой, стены — переборками.
Кряжистый, плотный человек, боцман Зозуля хозяйственно распорядился:
— Манилу завтра уложим. Обмакнули всё-таки. И калышек полно.
Лёшка напряг память: «Манила» — манильский трос, свит из волокон абаки, дикорастущих бананов. Прочен, намокает мало. Странное слово «калышка» встретилось впервые. Что оно означает?
Спросить было некого: все заняты. Лёшка спустился обратно, вернулся на корму, а оттуда забрался по наружным стальным трапам на самую верхнюю палубу, именуемую пеленгаторным мостиком. Здесь было промозгло и безлюдно, как на плоской крыше высотного дома.
Ночь и туман скрывали город. Фонари пакгаузов и подъездных путей, высокие, как звёзды, оградительные огни портовых кранов светились расплывчато и тускло.
Судно казалось частью города, одним из его островов, населённым, густо застроенным, но уплывающим в море.
Название судна было написано на носу и на корме — «Ваганов». На корме стояло ещё одно слово — имя прославленного города. «Ваганов» носил его как отчество — Ленинград. И так же, как Ленинград, «Ваганов» был частицей всего Отечества.
В каких бы водах мирового океана «Ваганов» ни плыл, в каких бы чужеземных портах ни стоял, все члены экипажа, от капитана Астахова до матросского ученика Лёшки Смирнова, чувствовали себя полномочными послами, дипломатами, представителями Советского Союза.
Торжественный, полный высокой значимости акт выхода в заграничное плавание сейчас никого не занимал на «Ваганове». Привычное дело, очередной рейс, по горло срочной, ответственной работы.
И Лёшка не впервые уходил в море — несколько раз совершал малый каботаж на судне отца. Вернее, на судах: отец плавал и на пароходах, и на турбоходах, и на теплоходах. Лёшка ездил с мамой, а позднее и с Димкой в Ригу, Таллин, Калининград. Они встречали отца. Судно не каждый раз возвращается в порт приписки. Бывает, что доставленные товары удобнее или выгоднее разгрузить в другом месте.
Вот тогда Лёшке и удавалось пожить несколько дней в отцовской каюте. Потом судно уходило в Мексику, Канаду, Францию. Или ещё куда-нибудь, на другой край земли.
Последний рейс отца был во Вьетнам…
Лёшка вздохнул.
Справа остался последний береговой огонь. Буксир прощально гуднул, отвалил в сторону и круто развернулся на обратный курс.
Палуба под ногами задрожала сильнее и чаще, вдоль бортов запенились и зашипели белые волны. Казалось, судно не плывёт, а едет по заснеженной дороге и, словно бульдозер с треугольным ножом, расчищает путь.
Главный двигатель набирал обороты, входил в полную мощь, а Лёшка внезапно ослабел, припал грудью к планширу, зашмыгал носом, замотал головой, чуть не заревел в голос. Так ему вдруг тошно, так одиноко и тоскливо на свете стало! Но он тотчас опомнился, пугливо оглянулся: нет ли кого?
На мостике не было ни души. Закутанные в брезент, стояли по бокам тумбы навигационных приборов.
Согнутая ладонь антенны локатора непрерывно вращалась, озирая туманное море. На верхушках двуногих мачт горели топовые огни.
Залезть бы туда, сложить ладони рупором и закричать, чтобы дома услышали: «Ма-ма!»
«Тебе так хорошо-о, — сказал Димка, прощаясь, — ты та-ак уезжаешь, а мы так не-ет».
Привычку взял такать и завидовать! Стоило Лёшке собраться куда-нибудь, Димка сразу хныкал: «Ты та-ак…» Сейчас, в эту минуту, Лёшка не злился, как обычно, на брата. Свершись чудо и окажись он тут, на мостике, Лёшка бы, наверное, поклялся никогда и никуда не уходить без него.
Из распахнутого светового люка машинного отделения сочилась блёклая желтизна. Остеклённые створки люка похожи на парниковые рамы, но снизу пахнет не огурцами, а перегретым машинным маслом. Так пахли отцовские рубашки, белые нейлоновые рубашки, которые мама перестирывала, хотя отец и уверял, что отмачивал их в специальном мыльном растворе сутками.
«Но ты же в них спускался в машину!» — говорила мама.
«Один раз, Мариночка! — оправдывался отец. — И я всегда закатываю рукава!»
Когда привезли отцовские вещи, они тоже пахли маслом. Они и до сих пор пахнут машиной и морем.
Трудно сказать: если бы отец был жив, пошёл бы Лёшка в матросы или нет? Скорее всего, нет. Отец и мама и заикаться о море не разрешали. «Думать не смей! Куда хочешь: в сапожники, художники, астрономы — только не в море!»