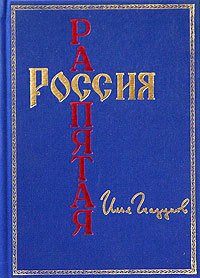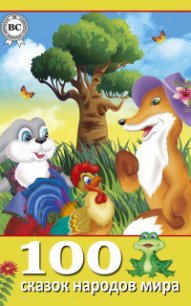Коронка в пиках до валета. Каторга - Новодворский Василий (читать книги онлайн бесплатно полностью .TXT) 📗
– Сначала струп делался, а потом, как струп отваливался, буквы черные.
Из черных они от времени стали синими, и действительно страшно видеть эти буквы на лице человеческом. У некоторых вместо букв шрамы: вырезано или выжжено каленым железом.
– Зачем же это делали? Для бегов?
– Нет, для каких бегов? Все одно, увидят шрам на лбу да на щеках – значит, клейма были, вырезал. А так резали, аль-бо железом жгли, чтоб букв не было. Что ж это! Образа и подобия лишаешься! Друг на дружку глядеть было страшно. Чисто не люди.
История их всех удивительно однообразна.
Вот Казимир Крупов, 70-летний старик. Сослан был еще в николаевские времена, за убийство, на 10 лет. Пробыл на Каре 9 лет, не выдержал, бежал. Поймали, прибавили 15 лет срока.
Видя, что «все одно погибать приходится», – через 2 года снова бежал. Поймали – каторга без срока. Еще в 1892 году работал в руднике.
– Жизнь чисто нитка! – говорит он. – Никак не свяжешь.
Ты ее как связать хочешь, а она тебе рвется, а она тебе рвется.
Все мы тут на нитке живем.
Вот Дудкин Трофим, 67 лет от роду, 41 год в каторге. Еще из военных поселенцев Херсонской губернии. Был осужден на 15 лет каторги за грабеж и убийство. Пришел на Кару, не выдержал, бежал; поймали, прибавили еще 15 лет каторги. Еще бежал, еще 15 лет прибавили. 6 раз бегал – каторга без срока.
– Да она все одно бессрочна была. Сорок пять годов, – нешто тут срок есть?
Вот совсем развалина, Матвей Кирдейко, виленский мещанин, 83 года. На каторгу пришел еще в 1858 году. Осужден был на 12 лет за убийство и грабеж. Затем через 2–3 года бежал с Кары, получил «прибавку срока», еще бежал, еще прибавка. В конце концов без срока.
– А много ль раз бегал-то, дедушка?
– Разов пять, а может, и больше. Нешто теперь вспомнишь? Забыл я уже все. Из откеда я, и из каких. Знаю только, что бессрочный.
Вот Вральцев, 70-летний старик, из крестьян Саратовской губернии. Пришел на каторгу на 15 лет, а отбыл уже 30 и еще должен отбывать без срока. Тоже за побеги.
– Мяли больно шибко, я и бегал! – говорил он. – Теперича мять будет, в богадельню бросили. Да и мять-то больше нечего. Мят, мят, да и брошен.
И такова история всех. Осужден сравнительно на недолгий срок, но бежал, и «пошли плюсы». При входе в «номер» тюрьмы на Сахалине не редкость встретить на табличке арестантов:
– Такой-то, 6 л. + 10 + 15 + 15 + 20…
Есть каторжники, которым «сроку» более 90 лет и которые первоначально были осуждены на 6, на 8 лет, то есть за сравнительно не тягчайшие преступления. Мы тут очень точно отмериваем: 6, 7, 8 лет каторги. А там, среди невыносимых условий, люди бегут от ужаса и из краткосрочных каторжан превращаются в бессрочных. Такова история всех почти долгосрочных сахалинских каторжан.
Безногие, безрукие, калеки – это живая новейшая история каторги. История тяжелых, непосильных работ и наказаний.
Вот этот отморозил себе обе ноги в тайге, во время бегов, и ему их отняли. Этот таким же образом лишился рук.
– Как же так? Зимой в тайге?
– Ваше высокоблагородие, в тюрьмах житья не было.
Что там ни говори о страсти каторжан к побегам, но хороша должна быть жизнь, если люди бегут от нее зимою в тайгу.
Масса поморозившихся на работах, на вытаске бревен из тайги.
– Одежду нашу знаете. Какая это одежда? Нешто она греет?
Пошлют из тайги бревна таскать, и морозишься.
А потом – отнятые руки и ноги.
Много, наконец, нарочно себя изувечивших.
– Это у тебя что? Тоже отняли, поморозил ногу?
– Нет, это я сам. Валили дерево, я ногу и подставил. Раздробило, и отняли.
Или:
– Сам себе я руку. Положил праву руку на пенек, а левой топором как дерну – и отрубил.
– Да зачем? С чего?
– От уроков да от наказаний.
Господа сахалинские служащие объясняют это ленью каторжан. Но вряд ли от одной лени люди будут отрубать себе руки и нарочно ломать ноги. Кроме каторги, нигде о такой лени никто не слыхивал.
– Дадут урок не по силам, не выполнил – драть, и в наказанье хлеба уменьшат. Назавтра еще пуще бессилеешь, опять драть да хлеба уменьшать. Приходишь совсем в слабость. Никогда урока не выполняешь. Дерут, дерут голодного-то. В отчаяние придешь, либо ногу под тележку али под дерево, либо руку прочь.
Вот где писать историю телесных наказаний на каторге.
– Меня смотритель Л. на самый Светлый праздник драл, в ночь, под утро, когда разговляться надоть было. «Вот, – говорит, – тебе и разговенье». Там «Христос воскресе» поют, а меня на «кобыле» порют.
Что ж удивительного, что люди, как все священники на Сахалине жалуются, «отстают от религии»?
– Мне тридцать пять розог цельный день давали!
– Как так?
– А так. Драли в канцелярии. Смотритель сидит и делами занимается. А я на «кобыле» лежу и палач при мне. Смотритель попишет, попишет, скажет: «Дай!» Розга. Потом опять писать примется. Обедать домой уходил, а я все лежал. Так цельный день и прошел.
Смотритель К., производивший эту экзекуцию, сам говорит, что это так:
– Это моя система. А то что: отодрался, да и к стороне. Это их не берет. Нет, а ты целый день полежи, помучайся!
Разве не истязание? В каком законе определено что-нибудь подобное?
– Меня так взодрали, два месяца потом на карачках, на коленках, на локтях, стоял, лечь не мог. Цельный месяц после порки все из себя занозы вытаскивал. Гнил.
– Я и посейчас гнию!
И действительно гниют.
Такие наказания были в Александровской тюрьме. Когда в соседней камере драли, один арестант под нары залез и там себе от страха горло перерезал. Обезумел человек. Так страшно было.
И это тоже факт.
А старики, слушая эти рассказы более молодого каторжного поколения, только усмехаются.
– Это еще что! Какая каторга! Вот на Каре в разгильдеевские времена было, вот это драли. Мясо клочьями летело.
И они показывают страшные шрамы действительно от вырванных кусков мяса.
– А это что за каторга!
И древние старики рассказывают о страшных церемониях «посвящения в каторжные», практиковавшегося встарь.
В этой ужасной, смрадной богадельне, где все дышит ужасом, спят не иначе, как с ножами под подушкой или под тряпьем, заменяющим подушку. Боятся – обокрадут.
Старики у стариков вечно ночью воруют.
– Вешают мало! Вешать их надо! – жалуются ростовщики, «отцы». – Ни одну ночь спокойно не проспишь. Все сговариваются старики, все сговариваются: «Пришьем его, как заснет».
Если в камере умирает какой-нибудь старик, остальные кидаются, обирают все до нитки, – так что труп находят совсем голым. Это уж обычай.
И старики, обобравшие уже по многу покойников, жаловались:
– А денег помногу никак не найдешь!
– Уж покойников двадцать этак-то раздевал! – жаловался мне один старик. – Хоть бы что! Прячут, черти! Уж я всегда держусь в камере, где «отцы» есть. Место себе на нарах сколько разов в таких камерах покупал, из последнего тратился. Все думаешь – вот какой помрет, воспользуемся. Занедужится ему, – ждешь, ночи не спишь. Затихнет ночью, подойдешь, – нет, еще дышит. «Что, – говорит, – ждешь, Афанасьич?» Смеются которые из них. Просто измаешься с ними, ночей не спамши. А день-то деньской боишься: а ну-ка его в околоток от нас унесут. Хоть мы про таких и не сказываем. Лучше, чтобы у нас в камере померли. Наконец кончится человек. Тут уж, как ему совсем кончаться, почитай, весь номер не спит, караулят сидят. И день-деньской из камеры не выходят, и по ночам не ложатся. Кинемся это к нему – так, тряпье, да денег рублей двадцать, больше и не находили. А ведь есть которые по сотельной имеют. Прячут, хитрые черти! Так и околеет – никому не достанется.
Прятать деньги старики уходят куда-нибудь в поле, потихоньку, чтоб никто не подсмотрел. В то лето, когда я был, в богадельне повесился один старик-отец, кто-то проследил, куда он спрятал деньги, и, когда старик пришел однажды, ямка была разрыта. Он не выдержал и удавился, быть может, за несколько месяцев до смерти, которая и так бы все равно пришла.