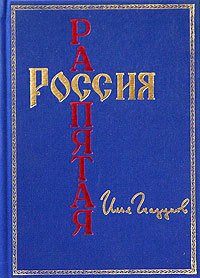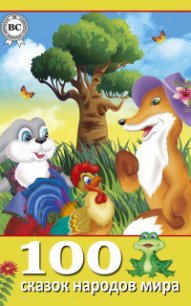Коронка в пиках до валета. Каторга - Новодворский Василий (читать книги онлайн бесплатно полностью .TXT) 📗
– А так в те поры было. Ставят в два ряда солдат с палками, привяжут к такой тележечке и везут. А они-то палками по спине рраз, рраз! И возят, покеда все, к чему сужден, не получишь. Он уж мертвый лежит, а его все рраз, рраз! Потому без помощи врача. А ежели с помощью, так доктор рядом идет. Видит, что человек в беспамятство приходить стал, скажет: «Стойте!» спирту даст понюхать, и потом опять начнут. За руку возьмет, на часы посмотрит. «Можно, – скажет, – еще сотню!» А как увидит, что человек совсем плох, сейчас же приостанавливает, и человека в гошпиталь. Отлежится там человек, выздоровеет, его опять на наказание поведут. Так до тех пор, пока всего своего не получишь. Товарищ, царство ему небесное, тот сразу, без помощи врача кончился. А меня, почитай, целый год драли, пока всего не выдали. Так год в гошпитале все и вылеживался. Вылежусь, опять дадут.
Затем палок, плетей и розог Матвей Васильевич получил неисчислимое количество.
– На траву я все ходил! – улыбаясь, говорил он.
– Как «на траву»?
– А так, зиму ничего, маячу в тюрьме. А придет весна, на траву и потянет. И бегу. Так кое-где лето шляюсь, в работниках служу. А осень придет – опять по тюрьме скучно станет. К товарищам иду. Сейчас мне и плети, либо палки, с прибавлением сроку.
Так этими отлучками «на траву» Матвей Васильевич и набил себе три бессрочных каторги.
– А по манифестам тебе сбавки не было?
– Какие же мне манифесты? У меня три бессрочных.
Все, что происходило в мире, неслось мимо этого человека, знавшего только тюрьму, плети, розги. Так он и жил, весной тоскуя по воле, осенью возвращаясь в тюрьму:
– Все-таки кормят!
Кроме бесчисленных побегов, за Матвеем Васильевичем никаких других преступлений не было. Человек он был честнейший: сами же служащие давали ему деньги – и иногда по многу денег – на покупку материалов, и никогда он не пользовался ни копейкой.
– А бегать – бегал. И окромя весны. И все через водку!
Трезвый – ничего, а напьюсь – сейчас у меня первое: бежать. Сбегу, напьюсь – попадусь! Пьяница я, ваше высокоблагородие!
Через водку мы с Матвеем Васильевичем и поссорились.
Друзья мы с ним были большие. Сколько раз, изнуренный сахалинской «оголтелостью», сахалинской «отчаянностью», спрашивая себя: «Да есть ли мера человеческому страданию и человеческому падению?» – боясь сойти с ума от ужасов, которые творились вокруг, – я приходил к этому старику и отходил душой под его неторопливую старческую речь. Он все пережил, все перестрадал, – и, старый старик, смотрел на все, вспоминал обо всем с добродушной улыбкой. Сколько раз, глядя на эту милую, кроткую улыбку человека, душа и тело которого половину столетия так мучилась, я спрашиваю себя:
– Есть ли мера благости и кротости и доброты души человеческой?
Эта дружба поддерживалась маленькими услугами: каждое утро Матвей Васильевич ходил ко мне на кухню, и кухарка должна была поднести ему чайную чашку – непременно чашку, это была его мера – водки. Спрашиваю как-то:
– Был дедушка?
– Никак нет-с, – отвечает кухарка. – Он уж несколько дней как не ходит!
Пошел справиться: уж не заболел ли. Матвей Васильевич нехотя и сухо со мной поздоровался.
– Да что с тобой, Матвей Васильевич? За что ты на меня сердишься?
– Что уж… Ничего уж…
– Да скажи, в чем дело?
– Что уж там! Ежели ты для меня, для старика, чайной чашечки водки пожалел, что же уж…
Оказывается, кухарка, глупая и злая баба, почему-то вдруг вместо обычной чашки водки поднесла Матвею Васильевичу рюмку:
– Все пьют из рюмки, а ты что за принц такой! Много вас тут найдется чашками водку хлебать!
Матвей Васильевич отказался и ушел:
– Я всю жизнь чашечкой пил!
И решил, что это мне для него водки стало жаль.
– Матвей Васильевич, Богом тебе клянусь, что я не знал даже об этом! Да приходи ты, четверть тебе поставлю, стаканами хоть пей – на здоровье!
– Нет, что уж… Пожалел… Чашечку водки пожалел… А я из-за нее, из водки, всю жизнь на каторге маюсь… А ты мне чашечку пожалел…
И на глазах у старика были слезы. Он и смотреть на меня не хотел.
Почувствовав приближение смерти, Матвей Васильевич явился в Александровский лазарет и спросил главного врача Л.В. Поддубского.
– Умирать к тебе пришел. Ты мне того… и глаза сам закрой, Леонид Васильевич!
– И полно тебе, старина! Ты еще на траву в этом году пойдешь!
– Нет, брат, на траву я больше не пойду.
– Да что ж у тебя болит, что? А?
– Нет, болеть ничего не болит. А только чувствую, смерть подходит. Ты уж меня того, положи к себе… И глаза сам закрой, Леонид Васильевич!
Желание старика исполнилось.
Окруженный попечениями, пролежав в лазарете два дня, он тихо и безболезненно скончался, словно заснул, от старческой дряхлости. И при последних минутах его был, глаза ему закрыл Л.В. Поддубский.
Так умер дедушка русской каторги.
Однажды доктор Н.С. Лобас дал Матвею Васильевичу бумаги, чернил, перьев:
– Дедушка, ты столько помнишь. Что бы тебе в свободное время сесть да и записать, что припомнишь. Свое жизнеописание.
– А что ж! С удовольствием! – согласился Матвей Васильевич и на следующий день принес назад бумагу, перья, чернила и четвертушку бумаги, с одной стороны которой было написано.
– Вот. Написал.
– Что?
– Жизнеописание.
И он подал четвертушку:
«Жизнеописание сс. – каторжного Матвея Васильева Соколова. Приговорен к трем бессрочным каторгам. Чистой каторги отбыл 50 лет. Получил:
Кнута – 10 ударов.
Плетей – столько-то тысяч.
Палок – столько-то тысяч.
Розог – не припомню сколько.
Сс. – каторжный Матвей Соколов».
– Все жизнеописание?
– Все.
Святотатец
Усталый, разбитый, измученный, пробирался я чрез тайгу с моим проводником, сссыльнокаторжным Бушаровым.
Бушаров стоит того, чтоб сказать о нем несколько слов. В ссоре его называют:
– Каин!
Он убил родного брата с целью грабежа. Убил при таких же точно условиях, как ехали мы теперь с ним: в глухом лесу. Убил потому, что у брата, как у меня, были деньги. Я взял Бушарова в проводники потому, что он, прежде чем остепениться, много раз бегал и знал сахалинскую тайгу как свои пять пальцев. За мной этот братоубийца, грабитель и бродяга смотрел так, словно я был стеклянный. Словно боялся, что я вот-вот разобьюсь вдребезги.
А приходилось трудно. По тундре, поросшей тайгою, только и пробраться что выросшей в тайге сахалинской лошади. Приходилось прыгать через ямы, через стволы огромных упавших деревьев. Лошади осторожненько сначала пробивали копытом место, прежде чем на него ступить, пробирались по корням деревьев, высунувшимся наружу, срывались, падали, увязали в топь по брюхо. Пар от лошадей валил. Ежеминутно приходилось бедных, измученных лошадей лупить нагайками, чтобы заставить выбраться из трясины. Только что вытащит задние ноги, глядь – сорвалась с корешка, провалилась в трясину передними. То летишь через голову, то через круп, то валишься вместе с лошадью.
– Поддержитесь, ваше высокоблагородие, поддержитесь! – подбадривал меня ехавший впереди Бушаров. – Скоро тут сторожка.
Прорубили сквозь тайгу просеку, поморили на этой нечеловеческой работе много народу, – а по просеке ни пройти ни проехать: на чем поедешь по тундре? Понаставили сторожек «охранять просеку», и хоть просека брошена, но все же в каждую сторожку, по старой памяти, назначают по два сторожа из каторжан.
Было уж под вечер, когда мы добрались до просеки и до сторожки. В сторожке был только один сторож – старик. Другой ушел на несколько дней в пост за провиантом.
Я не помню, как добрался до лавки, лег и заснул как убитый. Проснулся я ранним утром. Старик стоял на коленях и шепотом молился на маленький темненький образок, висевший в углу.
Перевирая и коверкая, он прочел «Богородицу», «Отче наш», «Царю небесный», из пятого в десятое «Верую» и начал молиться от себя.