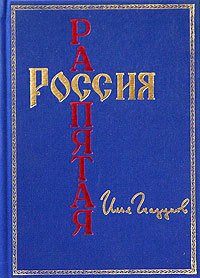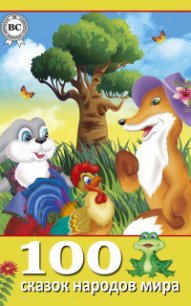Коронка в пиках до валета. Каторга - Новодворский Василий (читать книги онлайн бесплатно полностью .TXT) 📗
Фельдшер ушел, баронесса осталась с ребенком от него.
Удивительно странное впечатление испытывал я, когда сиживал в гостях у этой каторжницы-баронессы, теперь уж поселенки.
Мы сидели в маленькой, узенькой комнатке, с чистой постелью, покрытой одеялом из серого арестантского сукна.
На окне стояла герань, на комоде под лампой была сшитая из лоскутков подставка. Это все-таки придавало маленькой, темной комнатке какой-то уют. Было видно, что живет человек, привыкший к некоторому комфорту.
Разговаривая со мной, баронесса курила, гасила окурки об стол и оставляла их тут же, на столе, среди кучи пепла, плевала посреди пола, и от этого веяло каким-то бездомовьем, сахалинской оголтелостью, каторжным отсутствием женственности.
Когда в комнату входил работник-каторжник, ее помощник по булочной, она начинала говорить со мной по-французски.
Французский язык у нее чудный, красивый, элегантный. Тот чудный, красивый и элегантный, литературный французский язык, которым говорят хорошо воспитанные русские люди. А когда мы переходили на русский язык, она говорила, сама того не замечая, на «каторжном» языке:
– Ведь согласитесь, на фарт идти я не могу… Заработаешь тяжким трудом, дрожишь: шпанка, того и гляди, пришьет.
Такое странное впечатление производило это чередование превосходного французского языка с каторжным жаргоном у этой женщины, которая лихорадочно хватается за свой титул баронессы, потому что дрожит в ужасе от звания каторжанки.
Я познакомился с баронессой в тяжкое для нее время.
Незадолго перед тем в селении Рыковском, где в это время жила баронесса, случилось «громкое происшествие», о котором я уже говорил, [59]и баронесса дрожала, чтобы ее «не засыпали».
Однажды к ней явился молодой человек, бродяга Туманов, переведенный в Рыковское писарем полицейского управления, и отрекомендовался:
– Князь такой-то.
– Он действительно князь, – уверяла меня баронесса, – не знаю, что заставило его отказаться от своего имени и стать бродягой, он об этом избегал говорить. Человек воспитанный, очень образованный, умный, только страшно нервный, до болезненности нервный…
Он попросил разрешения бывать. Баронесса разрешила, и Туманов каждый день, как кончится работа в канцелярии, приходил к ней.
Бог знает, было ли что между ними, но несомненно, что этих двух людей, одинаковых по образованию, по кругу, к которому они принадлежали, влекло друг к другу. У них были общие взгляды, общие интересы, даже нашлись общие знакомые по Петербургу.
Баронесса говорит, что она:
– Отдыхала душой в этих беседах! Вдруг встретить здесь, на Сахалине, молодого человека, воспитанного, милого, – вы только подумайте!
А он говорил:
– Знаете, когда я говорю с вами, мне кажется, что ни каторги, ни бродяжничества нет, что мы с вами сидим где-нибудь в Петербурге…
Как вдруг однажды Туманов явился страшно расстроенный, вне себя. Ни за что ни про что, злой после вчерашнего проигрыша в карты, чиновник Г. выругал его «подлецом и мерзавцем».
– Я этого так оставить не могу! – говорил, страшно волнуясь, Туманов. – Меня могут выдрать, потому что я бродяга!
Но мерзавцем и подлецом меня называть не смеют! Я никогда подлецом и мерзавцем не был! Я потому и в каторге, что я не подлец и не мерзавец! Этого я оставить не могу!
– Таким я его никогда не видала! – говорит баронесса.
Молодой человек, вспыльчивый, горячий, решивший «так не оставить» начальнику оскорбление… на Сахалине… У баронессы «душа замерла»:
– Я уж и так из-за одного поплатилась. Довольно с меня!
Она сказала Туманову:
– Вы что-то задумали, оставьте меня. Уходите от меня, сейчас же уходите. Я не хочу ничего знать, не хочу погибать…
– Так и вы меня гоните? И вы?
– Уходите от меня, если вы честный, порядочный человек…
– Хорошо же…
Туманов ушел, а вечером все Рыковское было поднято на ноги: бродяга Туманов покушался на жизнь чиновника Г.
В то время участь Туманова еще была не решена, все господа служащие единогласно требовали «примерного наказания» Туманова, т. е. повешения, – для «острастки распущенной каторги», – и баронесса Геймбрук просила, молила, нельзя ли что-нибудь сделать для Туманова.
– Я себя виню, себя. Может быть, это мои слова на него так подействовали. Действительно, в такую минуту почувствовать себя совсем одним! Но посудите, что ж я могла сделать. Человек собирается Бог знает что сделать, как могла я с ним говорить? Ведь и я погибну! Да что я! Если бы я одна была, я бы о себе, может быть, и не подумала. Но мой ребенок, с ним что будет? Им разве я могу рисковать?
Этот ребенок от нелюбимого, отвратительного, презираемого человека – все, что есть в жизни у баронессы.
Она с дрожью отвращения вспоминает о беременности от фельдшера и безумно любит ребенка.
Пятилетнего, слабого, болезненного, золотушного мальчика, ради которого она работает день-деньской не покладая рук, месит тесто, жарится у печки, сажая хлебы, сидит согнувшись, шьет за гроши платья женам чиновников, дает уроки французского языка детям священника.
Любит, и без слез видеть не может своего ребенка.
– Они и его «бароном» прозвали. Издеваются. От чиновничьих детей его гонят, он должен играть со шпанкой…
Любит полной ужаса любовью:
– Ведь это будущий убийца растет! – с ужасом говорит она. – Вы только подумайте: наследственность-то какая. Себя я преступной натурой, конечно, не считаю. Какая я преступница! Но вы посмотрите на отца. Убийца, полусумасшедший, развратник. Ведь, вы знаете, он тут со своим развратом в такую недавно историю влез, мне же пришлось его откупить: двадцать рублей последних дала, чтобы в тюрьму не сажали. Дала, потому что ребенок его все-таки папой при встречах зовет, так чтобы ребенка не дразнили: «тятька в тюрьме»… И потом, что может выйти из него здесь, на Сахалине! Что перед глазами? Ежедневные убийства, поголовный разврат, плети, каторга. Вот вы на игры их посмотрите, играют в «палачи», в «повешенье», палач у них – герой, бессрочный каторжник – герой. Вы спросите у десятилетнего мальчика, что такое тюрьма? «Место, где кормят!» Где лучше, в тюрьме или на воле? «Знамо в тюрьме, на поселении с голода подохнешь». Ведь все это мальчик с детства в себя впитывает. Тюрьма для него что-то обыденное, неизбежное, заурядное, карьера. Что из него выйдет? То же, что и из других! Убийца. Ведь я его на каторгу ращу, на каторгу! Убийцу будущего!.. Но пока, пока он маленький, в нем еще ни чего этого нету, он ребенок, такой же, как и все…
И она при мне, в каком-то истерическом припадке, со слезами целовала своего мальчика, который явился домой плачущий, его только что отогнали от детей начальника округа и обругали «бароном».
– Мама, не вели им ругаться «бароном»!
«Не вели»!
Уезжая из Рыковского, в свое последнее свидание с баронессой, когда она провожала меня до дверей, я решился спросить у нее:
– Ну, а тот… с которым вы судились… об нем вы не имеете известий?
– Он в Сибири, кончил, как и я, свой срок поселенцем. Очень бедствовал, писал, я послала ему денег, так, гроши, какие были. Очень круто бедняге пришлась каторга. Недавно еще получила письмо. Болен, жалуется, просит послать немножко денег…
– И вы?
– Пошлю.
Я поцеловал ее руку и пошел.
– А? Откуда? От приятельницы, от баронессы? – встретил меня по дороге смотритель тюрьмы. – До мужчин уж больно охотница, подлая баба! С фельдшером путалась; Туманов, я знаю, к ней лясы точить шлялся. Я ведь все знаю, хе-хе! Она тут за фельдшера двадцать целковых, последних, чай, заплатила, в беду мил-дружок попался. Она и Туманову в тюрьму потихоньку белый хлеб посылала. Да вы что думаете? Она и к прежнему своему приятелю все время деньги посылала. Я с почты знаю! Все они у нее на иждивении. Любительница мужчин, подлая! Трое у нее было! Распутная! Через то и в каторгу пошла, что распутная, через любовника!..
59
См. Часть первая, глава «Смертная казнь».