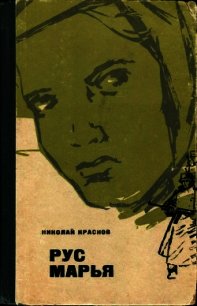Долговязый Джон Сильвер: Правдивая и захватывающая повесть о моём вольном житье-бытье как джентльмен - Ларссон Бьёрн
— Вы совершенно правы, Сильвер. Страховщики так и говорят. Но я-то что могу поделать? Матросы всё равно нужны.
Он на мгновение умолк, потом снова взглянул на меня — как мне показалось, впервые увидев во мне нечто большее, нежели лебёдку или блок.
— Кто вам такое сказал?
— Никто. Я сам додумался.
— Ах, вот как…
Он вперил в меня устрашающий взгляд, но я, не чинясь, отплатил ему той же монетой.
— На корабле, Сильвер, думать самому не положено. У «Леди Марии» один капитан, и этот капитан — я. Вы согласны, Сильвер?
— Так точно, сэр, — ответил я со всем уважением, на которое был способен.
— Можете возвращаться к своим обязанностям.
Разумеется, подумал я. До первого захода в гавань я их исполняю.
Наутро, при тихой и ясной погоде, мы завидели вдали красные песчаники Ирландии. Слева по носу высился мыс Клир, справа — утёс Фастнет. День был на редкость безветренный, небо усеяно лёгкими клочками ваты, которые не могли причинить вреда ни одному мореходу. Обзор был такой, что караульный на мачте видел сразу четыре береговых мыса: Тоу-Хед, Гэлли-Хед, Севн-Хедз и Олд-Хед-оф-Кинсейл. Все свободные от вахты, как один, собрались у левого борта и радостно вглядывались в берег. Я знаю, что капитана Уилкинсона раздражали не занятые делом матросы, даже если они сменились с вахты, но и ему не удалось бы заставить команду прибавить парусов и брасопить реи на таком слабом ветру, который лишь чуть рябил воду. Сам я стоял на юте, по обыкновению, с подветренной стороны от капитана Уилкинсона, и на душе у меня был безумно легко — я не испытывал такой лёгкости с тех пор, как искал справедливого капитана и хорошее судно, чтобы стать вольной птицей. Теперь, однако, я вёл себя иначе. Теперь, если я в кои-то веки раскрывал рот, я отдавал себе отчёт в своих словах. Я больше не бубнил кому попало заповеди и прочие высокие слова. Не хвалился направо и налево, что умею читать по-латыни. Не спрашивал у каждого встречного-поперечного, где найти справедливого капитана, что в любом случае было невыполнимо. Я больше не высказывал своего истинного мнения, поскольку это всегда оборачивалось мне во вред.
Зато я усёк, что каждому, включая наипоследнейшего из матросов, можно сказать приятные для него слова и что у меня есть дар удовлетворять эту душевную потребность человека. Короче говоря, никто не сумел раскусить меня, тогда как я учился всё лучше и лучше понимать других. И одновременно — так уж устроен наш мир — окружающие полюбили меня и стали считать хорошим товарищем.
Кстати, у меня накопились и деньги, при моей-то бережливости и практичности. Помимо спрятанного в поясе контрабандного наследства от папаши, которое я сохранил в целости, было чуть ли не трёхгодичное жалованье да барыш от кое-каких торговых сделок, заключать которые не возбранялось любому моряку. Моя наличность составляла целых шестьдесят фунтов и была зашита в разных предметах одежды. Кому бы это пришло в голову? Во всяком случае, никому из нашей команды.
Едва ли не рассеянным взором я отметил, что подбежавший к капитану первый помощник взволнованно указывает куда-то за корму. Я обернулся туда (раньше я вместе со всеми смотрел на лежащие слева по носу скалы и заманчивые ярко-зелёные холмы). Никогда не забуду открывшегося мне сзади зрелища. Исподволь и в то же время довольно быстро небо потемнело до цвета смоляного вара и, подобно каракатице, заливало чернилами остатки небесной лазури, которая ещё несколько мгновений продолжала висеть над «Леди Марией». На горизонте бесновались катившиеся в нашу сторону разрушительные валы. Я уверен, что ни один человек на борту — даже самые бывалые и закалённые морские волки, вся жизнь которых прошла на море, — не переживал ничего подобного. Страх и ужас читался на многих лицах, которые теперь дружно оборотились к капитану Уилкинсону. Похоже, все знали, что нам предстоит сразиться с парусами и снастями не на живот, а насмерть.
Однако приказа лезть на реи не последовало. Ещё раз посмотрев за корму, капитан Уилкинсон повернулся к экипажу.
— Ребята, — привычным хлёстким тоном проговорил он, — через несколько минут здесь будет шторм, какого мы ещё не видывали. Будете выполнять мои приказы, возможно, нам удастся отстоять судно. В случае неповиновения вас ожидает расстрел на месте как бунтовщиков. Я понятно выразился?
Все промолчали, один только я впервые возвысил голос, которым впоследствии прославился, чтобы выкрикнуть то, до чего, за неимением воображения или расчётливости, не додумались другие.
— Ура капитану Уилкинсону! — истошно завопил я.
И экипаж сначала вяло, а затем, под моим руководством, зычно и слаженно грянул ура капитану Уилкинсону, последнему из людей, который заслуживал такую честь.
На миг капитан едва не потерял самообладание. Он отпрянул, словно от удара кулаком, но тут же опомнился и рявкнул во всю силу своих лёгких:
— Молчать!
Воцарилась гробовая тишина, что было неудивительно, поскольку одной ногой мы уже стояли в могиле.
— Нечего тратить время на виваты, — продолжал капитан Уилкинсон. — Вам, наверное, странно, что я не погнал вас убирать паруса. На то есть одна простая причина. Вы не успеете зарифить и половину, как налетит кормовой ветер. Когда же паруса наполнятся, многих из вас снесёт в море. А потому… — он в последний раз взглянул через плечо, — вторая вахта — к помпам! Первая травит шкоты и отпускает паруса. Рулевые займутся шлагами. Когда все паруса будут полоскаться, половина первой вахты — натягивать предохранительные канаты. Вторая половина — готовить штормовые паруса. Посмотрим, когда дойдёт до дела, останутся ли у нас мачты для них. Надеюсь, излишне говорить, что нельзя терять ни минуты. Это должны соображать даже вы.
С пеной у рта прокричал свои распоряжения первый помощник. Когда освободили шкоты, захлопали отпущенные паруса. Как боцман, я должен был всегда стоять на подхвате и не входил ни в одну из вахт, поэтому успел обернуться за корму. Это, сказал я себе, не какой-нибудь white squall, шквал при безоблачном небе. На нас надвигался жесточайший шторм, который постарается прикончить всю команду, в том числе и меня. Я понял это, когда мой взгляд упал на Боулза, самого старшего из бывалых моряков на «Леди Марии», который считался у нас докой по части волнений и штормов. Он рухнул на колени и молился! Он, который за всю жизнь не вознёс ни одной молитвы; который всегда утверждал, что надеется только на компас; который наставлял нас, что лучший способ отправить судно на дно — тратить время на обращение за помощью к Отцу Небесному! Теперь Боулз сам молился!
И тут капитан Уилкинсон спокойным размеренным шагом подошёл от штирборта ко мне.
— Почему вы затеяли этот ор, Сильвер? — ледяным тоном произнёс он. — Почему все кричали ура?
— Не знаю, сэр. Может, потому, что надо было вселить в ребят надежду и мужество.
— Вселить надежду и мужество? Разве для этого недостаточно смертельной угрозы?
— С вашего разрешения, сэр, недостаточно, если каждый знает, что и так умрёт.
Капитан Уилкинсон пристально посмотрел мне в глаза.
— Вы уверены, что они кричали ура не в мою честь?
— Так точно, сэр, уверен. Поглядите сами!
Я указал на Боулза, который по-прежнему стоял на коленях и молился.
— Говорят, если моряк молится, значит, надежды нет, — пояснил я.
Капитан смерил Боулза презрительным взглядом.
— А вы почему не молитесь, Сильвер?
— Кому мне прикажете молиться? Может, вам?
Капитан Уилкинсон отрывисто засмеялся. Я впервые слышал, чтоб он смеялся, и смех этот больше напоминал собачье повизгиванье.
— Я уже говорил, Сильвер, что вас следовало бы застраховать, — сказал он, отсмеявшись (смех прекратился столь же внезапно, как гул выстрелившей пушки). — Второго такого просто не найти.
Затем он повернулся к середине палубе и закричал:
— Боулз! Ради вас самих надеюсь, вы молитесь мне, а не кому-нибудь другому.
Боулз, встрепенувшись, поднял испуганное лицо.