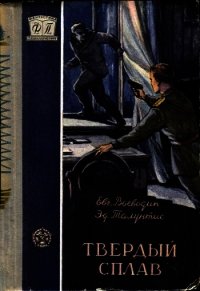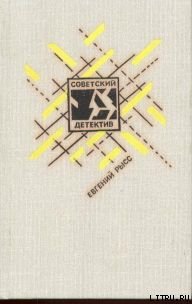Буря - Воеводин Всеволод Петрович (книга жизни .txt) 📗
Глава VII
ХОЗЯИН СОЛОМЕННОЙ ПЕЩЕРЫ
Это была пещера, низкая, тесная пещера, вырытая в соломенной горе, и посреди неё горел ветровой фонарь. На брюхе я прополз по узкому ходу-норе, который вел внутрь пещеры. Снаружи бесновался ледяной ветер, здесь была духота. От спёртого, как в глубоком погребе, воздуха мне сразу же перехватило дыхание. Фонарь горел тускло. В этом зверином жилье нечем было дышать, и я со страхом подумал, что слабенький огонек фонаря мигнет сейчас и погаснет.
Мы все собрались здесь: два парня — их звали Мацейс и Шкебин, — Аркашка и я. Мои спутники чертыхались, соломенная труха запорошила им глаза и ноздри. Потом Аркашка поднял с земли фонарь и осветил самый дальний угол пещеры. Я увидел опрокинутый ящик, на котором валялись длинный нож, вроде кухонного, и жестяная кружка. Ящик, должно быть, заменял стол хозяину этого жилья. А дальше, в самом углу, лежала кипа соломы, заваленная сверху мешками и облезлыми оленьими шкурами.
— Спит, — проворчал Аркашка.
Шкебин выругался.
— Так разбуди его.
Аркашка, с фонарем в руке, шагнул к мешкам, валявшимся на соломе. Это жилье было таким низким, что головой он задевал потолок, то есть тяжелые соломенные своды, нависшие над ним. Огромным своим сапогом он ударил наотмашь по груде мешков и шкур, и сразу же она рассыпалась, развалилась, и лысая человеческая голова высунулась наружу.
Темно было по углам. Лысая голова, отсвечивая под фонарем, точно торчала из-под земли, точно висела в воздухе.
— Будет спать, — сказал Аркашка. — Гости пришли.
Голова чуть заметно ворочалась. Она разглядывала нас, а я разглядывал её. Старое бледное безбровое лицо, всё в морщинах, всё в белой щетине, красные глазки, бескровные отвисшие губы — вот что я увидел. И эти красные глазки смотрели совсем по-звериному — испуганно и злобно.
А затем произошло превращение: отвисшие губы растянулись в усмешке, и глаза совсем пропали в морщинах. Хозяин этой берлоги, должно быть, остался доволен осмотром своих гостей.
— Какое общество! — нараспев сказала голова и затряслась от кашля. Мешки и шкуры в углу снова пришли в движение. Кашляя и сплевывая на землю, хозяин выбрался ползком на середину пещеры. Он выхватил из рук Аркашки фонарь и осветил наши лица.
— Какое общество! — повторил он. — Не ждал, вот уж не ждал!
— А кого ты ждал? — резко спросил Шкебин.
— Все стали очень серьезными, ах, какими серьезными! — непонятно почему захохотал хозяин. — Такая беззаботная птичка, как я, такой воробушек нынче портит кровь серьезным людям.
— Ну, довольно, — сказал четвертый в нашей компании, молчаливый парень, по фамилии Мацейс. — Трещишь, как заводная машина.
Хозяин ещё раз поднял фонарь и осветил лицо гостя. Из всех моих новых приятелей, с которыми случай свел меня в этот вечер, Мацейс мне нравился больше остальных. На меня, правда, он обращал мало внимания, мне же нравилось его суровое красивое лицо и тот повелительный тон, с которым он обращался к своим товарищам.
— Да, — продолжал хозяин, ещё раз внимательно осмотрев гостя. — Такие франты у меня теперь бывают не часто. Юшкой нынче брезгают, а уж если вспоминают о Юшке, — значит, что-то стряслось. Ну, выкладывайте, мальчики, начистоту, — что стряслось?
Аркашка нагнулся к его уху и стал что-то быстро бормотать. Я расслышал только слова: «замерз», «Колька» и понял, что он рассказывает о смерти того самого матроса, которого мы провожали нынче на кладбище.
Юшка внимательно выслушал его рассказ, после чего неодобрительно покачал головой.
— Он стоил всех вас, вместе взятых, вот что я вам скажу. Умел, умел жить этот моряк!
Вздохнув, он полез в угол на свое прежнее место. Долго он кряхтел и кашлял, роясь в набросанных на солому мешках и облезлых шкурах; потом повернулся к нам, и в одной руке у него была большая свежая рыбина, а в другой — флакон одеколона.
— Помянем покойничка, мальчики? — сказал он со вздохом. — Хотя ваш организм, наверное, не привык к такому угощенью. Вам надо, детки, что-нибудь полегче. Ну, уж пес с вами, найдется что-нибудь и по вашему слабому здоровью.
Сидя на мешках, он прямо из горлышка стал пить одеколон и закусывать с хребта сырой рыбой. К вони, которая была тут в пещере, прибавился ещё невыносимый запах парикмахерской. Тошнота комом подступала у меня к горлу. С ужасом я смотрел на этого отвратительного старика, который то запрокидывал по-куриному свою голову так, что была видна только дряблая шея да острый кадык, и маленькими глоточками тянул это мерзкое пойло, то, ухватив рыбину за хвост, вгрызался ей в спину своими гнилыми зубами. Всем трем моим приятелям это зрелище, повидимому, было не в диковинку. Они рассаживались поудобней, в то время как Аркашка откуда-то из-под соломы выкапывал большую бутылку с вином, резал хлеб и обдирал ножом копченого окуня.
— «Ночная фиалка», — разглагольствовал старик, помахивая обгрызенной рыбой, — превосходный сорт. Но, по правде говоря, мальчики, тройной одеколон вкуснее всего.
Аркашка протянул было и мне жестяную кружку с вином, но я отказался наотрез. Меня занимало только одно: что за человек хозяин этой берлоги, кем он мог быть? Аркашка, пока все угощались, наклонился к моему уху и скороговоркой объяснил, что хозяин этой берлоги — это Юшка, знаменитый Юшка, по прозвищу Дивертисмент, которого до сих пор помнит вся Одесса. При слове «Одесса» Аркашкин голос дрожал от восхищения. С Черного моря Юшку убрали года четыре назад, и с тех пор он обосновался в Заполярье. Он был матросом, но уже лет сорок назад списался с корабля и с той поры не ударил палец о палец. Живет, как птичка, — не сеет, не жнет.
— Бич, — сказал Аркашка, — это настоящий бич. Можешь не сомневаться, он взял свое от жизни.
Позже я узнал, что «бич», «бичкомер» — это прозвище портовых бродяг.
Между тем Юшка, заметно охмелев, стал опять жаловаться, что ему выпала неважная старость, что он привык к хорошему, веселому обществу, а времена пошли такие, что он вынужден сидеть, как крыса, в норе. Как ни мутило меня от запаха гнилой рыбы пополам с парикмахерской, но здесь, в этой берлоге, было тепло, и после нашей прогулки под снежными шквалами мне больше всего хотелось вытянуться и уснуть. Мало-помалу Юшкины причитания становились всё тише и тише, и я задремал. Уснуть мне, конечно, не пришлось, очень скоро я очнулся и первым делом увидел Юшку. Старик, пошатываясь, стоял посреди пещеры и кричал:
— «По Пешеновской»! Я вам буду плясать «По Пешеновской на велосипеде»! Никто из вас, дураков, понятия не имеет об этом танце, а между прочим им восхищалась вся Одесса!
Вскидывая руками, он стал скакать вокруг фонаря, стоявшего на земле, — и тут только я заметил, что он хром. А мои приятели сидели на корточках вдоль стен и хлопали в ладоши. Лица у всех были красные, зубы оскаленные. Что-то собачье было и в их позах и в выражении лиц. Я зажмурил глаза: мне не хотелось видеть этого безобразного старика, который скакал, взмахивая руками и тонким голосом выкрикивая слова какой-то бессмысленной песни. Вскоре он раскашлялся и повалился на свои мешки. Аркашка восторженно хохотал, бил его по спине кулаком и целовал в лысый череп.
— Мы сегодня гуляем, — хрипел старик. — Не каждую ночь у Юшки такие гости. Мацейс, Жорочка, я ведь знал твоего отца, ей-богу! Мы делали с ним на пару неплохие дела с чулками и сигарами. Угощаю вас, мальчики. На, хватай!
Он размахивал толстой пачкой денег. Аркашка, восторженно хохоча, пытался выхватить у него бумажки. «Откуда у этого грязного, страшного бродяги такая масса денег?» — удивлялся я, а глаза у меня снова слипались. Смутно я слышал разговор.
— Иди к вдове. Скажешь, — от меня. Мы с ней дружки. Она сама из сахара гонит…
— Кусок идиота! — слышал я Аркашкин смех. — Как это вам нравится, он выжил из ума! Вдову ещё позапрошлую осень прикрыли со всей её лавочкой. Ты один отсиделся.
— У меня не осталось моих «дружков», — снова запричитал старик. — Вдова Палисадова, сестрички Лепешкины — ах, что это были за люди! Всех разогнали, Юшкина очередь…