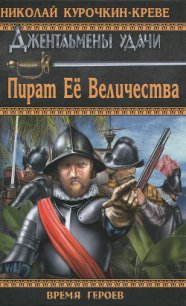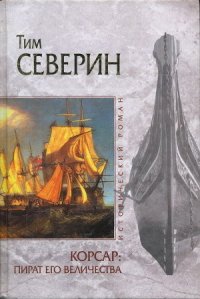Федька-Зуек — Пират Ее Величества - Креве оф Барнстейпл Т. Дж. (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации TXT) 📗
Дрейк хлопнул вице-адмирала по мускулистому плечу:
— Это замечательная идея, Джон! Мы так и сделаем. Переименуем «Пеликана». «Елизавету» переименовывать, естественно, недопустимо: в честь королевы названа. «Мэригоулд» мал, мало чести. А вот переименовать флагмана — это да! Итак, решено: «Пеликан» отныне становится «Золотой ланью»!
— Дурная примета — переименовывать корабль во время плавания, — проворчал Джон Честер, бывший капитан «Лебедя», а ныне помощник Винтера.
— Плевать на приметы! — беззаботно сказал Дрейк. — Когда в Вест-Индии я переименовывал пинассы, тогда-то и пришла удача. Ребята, помните?
Все, кто был в том плавании, дружно подтвердили.
— И потом, что это за название для корабля, совершающего великое плавание? «Пеликан», ха! Пеликан — смешная птица. Потомки хихикать будут. А лань — благородное животное…
Имя корабля имело немаловажное значение. Испанцы называли свои корабли именами святых. Так что любой испанский галион всегда годился для великих дел. Англичане называли свои именами королей либо так, как Дрейк назвал три фрегата, приобретенных после вест-индского плавания семьдесят второго — семьдесят третьего года: «Ридьютейбл», «Трайэмф» и «Виктэри» («Грозный», «Победоносный» и просто «Победа»).
Итак, решено было: в Магелланов пролив войдет «Голден Хинд» — «Золотая лань».
Прямо на ходу срубили фигурку пеликана, уткнувшегося клювом в собственную грудь, с носа корабля (знаете, зачем на всех парусных судах на носу, пониже бушприта, ставили скульптуру, прямо или аллегорически изображающую то или того, в честь чего (кого) назван корабль? Все очень прозаично. Романтическая фигура… скрывала гальюн, то есть по-нашему, сухопутному, уборную. На парусном судне ветер дул от кормы к носу чаще, чем наоборот. На так называемых «боканцах», решетке под бушпритом, присаживались, а романтическая фигура скрывала от взглядов со стороны.). Затем корабельные плотники всей экспедиции начали вырубать и остругивать благородный торс кроткого животного…
Обогнув мыс Девственницы, 22 августа корабли Дрейка встали на якорь при входе в Магелланов пролив.
Трудно перечислить все опасности, подстерегающие мореплавателей в этом проливе даже в наше время. А уж в шестнадцатом веке! Во-первых, пролив чрезвычайно извилист, при ширине менее четырех миль. А это означает, что приходится то и дело менять направление. А если направление того участка пролива, где находится в данное время ваш корабль, перестало совпадать с направлением ветра? Парусник может врезаться в берег. А берега Магелланова пролива сплошь каменные!
Во-вторых, корабли-то были деревянными, и малейшее столкновение с камнями сулило гибель — а избежать такого в тесноте пролива было затруднительно.
В-третьих, глубины в проливе были практически неизвестны, при этом якорь дна не доставал кое-где, даже если корабль стоял вплотную к берегу. То есть любой порыв ветра грозил толкнуть судно и… (смотри второй пункт).
В-четвертых, неизвестно было, где какое дно. Скажем, доставши даже дна якорем, невозможно было укрепиться, если дно — галечная россыпь. Или сплошная скала. Или жидкий ил с мелким песком. «Золотая лань» в проливе все эти три варианта испробовала, без малейшего желания экипажа.
В-пятых, ветры в проливе, из-за чрезвычайно сложного рельефа берегов, дули переменно с разных сторон, из каждого открывающегося к проливу ущелья — свой ветер. К тому же часто они были резкими, порывистыми или неравномерной силы. И эта его извилистость, будь она.. ! Из-за нее то против воли, вслед за ходом извилистого канала, уходишь от попутного ветра (он-то не изменился, ты идешь другим курсом). То напарываешься на встречный, а то еще того хуже — не успел зарифить паруса и тем уменьшить ход — а тебя понесло внезапным шквалом прямехонько на скалы!
Или такое: среди узенького канала, которым шла «Золотая Лань», — островок, и никто, даже Нуньеш да Силва, не может подсказать, с какой стороны их огибать, не рискуя сесть на мель. На карте барселонских картографов три четверти пролива, если не более — белые пятна с предположительным пунктиром береговой линии…
Матросы страшно уставали — тянуть канаты ведь приходилось непрерывно: то зарифливать грот, то поднимать марсели, то переваливать руль на другой борт в третий раз за час… И все каждый раз требовалось делать срочно! Потому что размеры теснин пролива не позволяли делать хоть что-то медленно, спокойно, как положено. Миг промедления — ты покойник! То все люди, какие есть, потребны на корме! То на носу — и времени на перемещение по палубе нет… От полного изнеможения людей Дрейка спасало одно: то, что теперь на трех кораблях размещались экипажи пяти. Благодаря этому людей на всякое дело хватало пока, и межвахтовый отдых кому-то всегда удавалось без авральных подъемов отваляться в койке… Хотя часто, от переутомления, без сна — но хотя бы в тепле, без опостылевших сапог, поясного ремня и клеенчатой куртки…
Берега были оба гористы — но вида один от другого весьма отличного. Правый, патагонский берег, был двух цветов: серого и желтого. Пустыня с разноцветными каменными россыпями, округлыми подушками кустарника — на вид сочного, приветливого и даже как бы нежного, но на самом деле — те, кто поднимался с Томом Муни по реке Санта-Крус, знают это, — твердого как гриб-трутовик… А от дерева до дерева на патагонском берегу было несколько сотен саженей, и то половина деревьев засохшие и обломанные. Там и сям по пустыне раскиданы серо-белые кости крупных животных…
А вот левый берег — берег Тьерра-дель-Фуэго, Огненной Земли, был покрыт сплошными, от кромки воды вверх до тысячи с лишним футов над уровнем моря, лесами. Роскошные, перепутанные лианами, сырые, похожие даже на тропические, где-нибудь в Гвинее, скажем, или в Вест-Индии…
Но много любоваться пейзажами не приходилось: у каждой горы тут был собственный ветер и дуло то туда, то оттуда, а то так и вовсе с нескольких сторон сразу! Если два ветра сшибались, возникал смерч — тем более грозный, что глубины чаще всего не позволяли встать на якорь. К счастью для англичан, смерчи, хотя и крутились неподалеку от кораблей, ни разу не задели их…
Несколько раз приставали к берегу — когда ветер крепчал, грозя перерасти в штормовой, а впереди «Лани» по курсу, как и позади, крутые колена пролива, так что, ежели не переждешь, разобьет о берег. Конечно, если на берегу есть за что закрепить канат…
При таких вынужденных остановках к кораблям подходили туземцы. Патагонцы Магелланова пролива ростом были поменьше своих северных соплеменников, редко кто выше шести футов трех дюймов (впрочем, и ниже шести футов такая же редкость). Одеты в шкуры гуанако, на голове повязка, украшенная белыми перьями. Тело они не красили, а рисунки на лице были не такими, как у техуэльче или патагонцев долины реки Санта-Крус.
От уха и до уха через верхнюю губу у здешних шла темно-алая полоса (отчего лицо при беглом взгляде казалось разрубленным и кровоточащим), а через веки от висков, параллельно ей — белая полоса, та и другая шириною в большой палец. Но у некоторых обе полосы были одного цвета, причем черные, а не белые или красные. Почему такое различие — осталось неизвестным: не то чтобы англичан это не заинтересовало — но здешние патагонцы испанского не знали уже вовсе. Они вообще, похоже, никогда прежде не встречали белого человека, поскольку изумлялись цвету кожи англичан и знаками показывали, что хотели бы, чтобы диковинные иноземцы поскребли или помыли бы кожу и тем доказали, что их кожа не покрашена белым. Эти туземцы зачем-то (опять с помощью одних только знаков не удалось выяснить, зачем это) стреляли из своих луков одновременно двумя стрелами. Вообще они были смышлены и сильны в ратном деле: к примеру, строились они так хитро, что казалось, будто их втрое больше, чем на самом деле. Они, кажется, не опасались никаких врагов, и были поэтому настроены невозмутимо…
По мере продвижения вперед левый берег, огненно-земельский, становился унылее, а правый, патагонский — веселее. Наконец, когда общее направление пролива резко сменилось с восточно-западного на северо-южное, вид обоих берегов уравнялся. Слева и справа торфяники — да такие мощные, что запах торфа долетал до середины пролива, заглушая собою все другие сильные запахи — и моря, и свежевыпавшего снега, и мокрого леса…