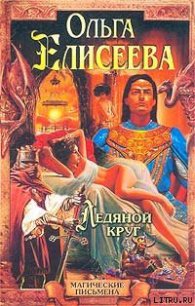Последний часовой - Елисеева Ольга Игоревна (читать книги бесплатно txt) 📗
Но именно этого он добивался с отчаянием и надеждой. Выйти из круга, очерченного для полковничьей должности, для сына разорившихся родителей, для человека блестящего образования, но малых постов. Рывок, взлет! Пусть даже ценой жизни. Нет ничего хуже, чем чувствовать необъятные силы и не иметь им приложения.
Сколько фортун, выброшенных на свалку! Сколько толковых людей, обреченных слабоумию гарнизонной жизни! Чтобы сломить все это для себя и других, он готов был перешагнуть через кровавый круг истории, которого так чуралась мать.
«Что перед нами? Картина преступлений и страданий рода человеческого. От времени до времени является какой-нибудь гений, который восстает против жестокостей, увлекает за собой толпы, тогда убийства бывают ужасны. Слабый становится сильным, дух мщения соединяется с неумелыми действиями правительства, вожди партий в раздоре, один из них захватывает власть, железный жезл прекращает анархию, и через некоторое время комедия разыгрывается снова, только с другими действующими лицами».
Она смотрела со стороны, с позиции жертвы. Павел не сердился и не объяснял. Но видел иначе. Он – вождь партии в раздоре с другими, он захватывает власть, железным жезлом прекращает анархию… Если революции так плохи, то почему принесенные ими законодательные блага теперь, после реставрации, признаны всеми народами? Шаг вперед был. И громадный. Стоил ли он крови и страданий? Для костей, которыми усеяны поля Европы, – нет. Для тех, кто родится после, – безусловно.
Годами Павел мысленно примерял треуголку с трехцветной кокардой, так увеличивавшую рост. Но и проигрыш был возможен. О нем он много думал в последнее время, говорил товарищам: «Чем так рисковать, ничего не делая, не лучше ли разойтись?» Но все-таки надеялся на счастливый шанс.
Шанс выпал.
Теперь камера в пять шагов от окна до двери и в три от стены до стены. Низкий потолок. Два стула. Продавленная кровать. В ногах сундук. Но ведь может не быть ничего. Пустота. Конец жизни. «Сердцем я материалист, но разум этому противится». Парадокс, восхищавший многих. Что же хорошего, когда сердце бежит от Бога, а рассудок подсказывает: в творении не обошлось без Творца? Страх встретиться с Ним ужасен.
В дверь постучали. И почти в ту же минуту она растворилась. Стук в крепости – не способ спросить разрешения войти. А всего лишь предупреждение о визите. Караульные вообще не стучат. У простонародья так принято. Барабанная дробь по доскам говорила о человеке светском, хорошего воспитания.
На пороге появился генерал-адъютант Бенкендорф.
– Я пришел, чтобы принять у вас письмо, адресованное родным.
– Умоляю дать мне еще несколько минут. Я хотел бы закончить.
Генерал-адъютант сел на стул, предоставив арестанту возможность дописать.
Даже странно, что именно к этому злодею родители проявили нежное участие. Сколько иных примеров! Сенатор Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, гуманист и либерал, проклял сына. А почтенный батюшка Михаила Бестужева-Рюмина, зная, что казнь неизбежна, бросил: «Собаке собачья смерть!» Чего они добиваются? Хотят низостью купить благоволения государя?
Папаша Пестеля, по всем свидетельствам казнокрад и лихоимец, однако повел себя по-людски. Приехал в Петербург, где со своей позорной отставки не был. Обивал пороги, на которые клялся не вступать. Молил тех, о ком доподлинно знал, что они оговаривали его перед прежним императором. Все ради сына.
Не помогло. И не могло помочь. Виновен сверх меры. Но хоть попытался. Привез благословение, надел на шею обреченного крест сестры: мужайся. И тут же в свете прошел слух, будто старик при встрече последними словами ругал несчастного, называл зверем и иродом. Наконец воскликнул:
– Чего же ты все-таки хотел?
Заключенный якобы ответил:
– Это долго рассказывать. В частности, чтобы таких губернаторов на Руси не было.
Все ложь! Старик вошел нетвердой походкой, сын бросился к нему. Они обнялись и так стояли, не в силах выговорить ни слова. Вот как было. А свет грязен на язык. И Александр Христофорович знал, что разговор пополз из гостиной Сперанского…
«Я получил ваше благословение, и мне более ничего не нужно. Не знаю, какова будет моя участь. Ежели смерть, то приму ее с радостью». Заключенный сложил письмо, но запечатать его было нечем, и он вручил лист так. Мучительное нарушение приватности!
12 июля, около 11 утра, в камеры подследственных явился плац-адъютант со своим неизменным: «Пожалуйте!» Так вызывали в комитет. Но главных фигурантов по делу обычно сопровождали на дознание ночью, с особой таинственностью, накинув на голову платок. Что же теперь?
В Комендантский дом – одноэтажный, длинный, на высоком подклете – вводили по боковой лестнице. Группы были небольшими, каждая шла сама по себе. В передней толпились Барятинский, Якубович, Вадковский, «соединенные славяне» – всякой твари по паре, – и странно было видеть среди них бледного как смерть князя Трубецкого с Евгением Оболенским, обвиняемых, как будто, больше других. Их точно выдернули из своего разряда, перебросив к людям малозначительным.
Между тем за стеной послышались громкие возгласы, возмущенный ропот и чей-то вскрик. Прерывающиеся рыдания сменились гробовой тишиной. Там пятеро главных виновников услышали приговор. Остальные пока не знали их участи: «За преступления, сими лицами соделанные, на основании воинского устава 1716 года, артикула 19, казнить смертью через четвертование».
Гуськом подсудимых начали вводить в двери. Зал с белыми стенами, кафельной печью до потолка, полупустыми книжными шкафами, державшими парадный портрет императора Александра под караулом, был явно маловат для набившегося народа.
За столом-покоем с красной скатертью сидели четыре митрополита, а по бокам – Государственный совет и генералитет. Кругом на лавках и стульях амфитеатром – сенаторы в красных мундирах. На пюпитре лежала огромная книга. При ней чиновник. Подле министр юстиции князь Лобанов-Ростовский в голубой Андреевской ленте через плечо.
Все собравшиеся парадные мундиры со стоячими, шитыми золотом воротниками страдали от духоты. Окон не растворяли. Двери заперли на замки. Возле них по два гренадера с ружьями – странная предосторожность. Разве отсюда можно сбежать? Для великого государственного судилища больше подошло бы сенатское присутствие. Однако подобные дела на Руси никогда не совершаются гласно, без нарочитой таинственности. А ей пришлось пожертвовать и местом, и воздухом.
Подсудимых вытянули вдоль стены в шеренгу. На многих лицах была заметна растерянность, а потом и усмешка. Суд? Зрелище осыпанной звездами толпы, мучимой теснотой в безвоздушном пространстве, вместо того чтобы подавить, всколыхнуло в душах уснувшие чувства. Вспомнились убеждения. Шевельнулся гнев от собственного бессилия. Как они могли дать столько показаний? Запутаться в вопросах? Наговорить друг на друга лишнего?
Люди, связанные родством и дружбой, сознавались в гибельных умыслах. Валили вину на товарищей. Хитрецы-дознаватели сумели разъединить целое, стравив части. Но полно! После нечаянного предательства, очутившись вместе, подсудимые кинулись друг к другу и в горячих объятьях простили все.
Оглядевшись вокруг, каждый подумал, сколько же на него, грешного, накинется судий? И что, если все они захотят задать хоть по одному вопросу?
Министр юстиции суетился, как хозяин на приеме: вскакивал, садился, отдавал распоряжения. В руках у него был свиток бумаги чудовищной длины. Разбирая отдельные листки, он вручал их обер-прокурору Журавлеву – белокурому, щеголеватому господину, который через минуту начал чтение звонким голосом отвечавшего заученный урок зубрилы.
Зал затих. Каково же было удивление подсудимых, когда они поняли, что уже осуждены. На основании одних подписанных ими показаний, от которых многие намеревались отпереться! Сия наглость, сие зверство, сие беззаконие потрясло собравшихся. Послышались сдавленные смешки.
Им пели заранее подготовленную лебединую песню. И кому какое дело, что ноты сочинил сам Сперанский, что трудились над приговором не тупоголовые вояки, а истинные мастера – Блудов с Дашковым. С юридической точки зрения казуисты все провели без помарок, в полном соответствии с разрозненным российским законодательством от XVII века до Матушки Екатерины. Но нарушен был Дух Законов! Попраны лучшие учителя права – Руссо, Беккарий, Бентам – те, на чьих трудах возросли и учились заговорщики.