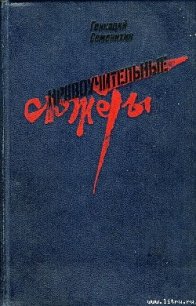Полонянин - Гончаров Олег (чтение книг TXT) 📗
29 ноября 947 г.
– Ногу я тебе ненароком не потревожил? – спросил я Ольгу утром.
– Дурачок, – ответила она, – разве же в такой миг боль чувствуешь? – а потом вздохнула: – Знал бы ты, как давно я вот так, на мужское плечо, голову свою не клала. Любый ты мой… – И в бороду поцеловала. А в глазах блеск горячечный.
– Это Трясавица в тебе тешится, – погладил я ее по руке. – Выбираться нам надо. К людям идти. Не то она тебя совсем спалит.
– А может, останемся? Знойно здесь. Покойно, – шепчет, а сама теснее ко мне прижимается.
– А сын твой как же? Без мамки Святославу нелегко придется.
От этих слов она встрепенулась. В себя пришла. Взглянула на меня, точно впервые увидела, головой тряхнула, словно наваждение прогоняя. Волосы ее по плечам рассыпались, грудь прикрыли.
– Чего же это мы? – спросила растерянно.
И заторопилась. Засуетилась. Принялась одежу свою с ветвей снимать. Повернулась неловко. Ногой обмороженной за сучок задела. Вскрикнула от боли и заплакала навзрыд.
– Погоди, – я ей тихонечко. – Сейчас.
А сам обыжку скинул, гляжу – пальцы на ноге у нее словно сливы спелые. Я на них подул и зашептал:
– Боля ты, боля, Марена Кощевна…
– Полегче вроде, – через некоторое время сказала она.
– Ненадолго это, – вздохнул я устало. – Одеваться нам надо. Давай помогу тебе.
– Сама справлюсь, – оттолкнула она мою руку.
Липкий пот заливает глаза. Щиплют от соли веки. Чешутся брови. Так хочется утереться, а то и вовсе рухнуть на землю и зарыться лицом в снег. Так хочется. Но понимаю, что нельзя мне. Замерзну. Засну. И ношу свою заморожу. Оттого и терплю. А ноша у меня не легкая. И с каждым шагом все тяжелей становится.
У меня на закорках Ольга сидит. За плечи меня обнимает. А я руками ее под колени подхватил и тащу по своим вчерашним следам. И буду тащить, пока без сил не рухну.
Давно иду. И силы уже на исходе. Но знаю, что недолго осталось. Еще чуть-чуть – и либо выйдем мы, либо в бору заснеженном вместе ляжем. В обнимку.
На одной ноге у нее сапог, а на другой обмотка. Я одну из сорочиц ее на ленты изодрал, на онучи пустил. А сапог у елки поваленной кинул. Лишней обузой он. А сапог хорош. Бисером расшит. Камнями разноцветными. Будет теперь зверью лесному забава.
Ольга-то ничего. Крепится. Поначалу подбадривала меня:
– Была у меня кобылка, а теперь жеребчиком обзавелась.
Но это поначалу было. Теперь молчит. Сопит над ухом только да покашливает. А кашель противный. Сухой. Без мокроты. Дурной знак.
Отвара бы ей, малины сушеной. Молока горячего с медом. Ну, да это потом. Когда к людям выйдем. Небось ищут ее, с ног сбились. А она здесь. Конюха оседлала…
Все.
Нет больше мочи.
Упаду сейчас. Вот еще пару шагов сделаю и упаду. Или еще на шаг силы хватит?
Хватило.
И еще один сделать можно, если бы не пот. Совсем глаза залил. Не вижу, куда иду. Может, уже и со следа сбился?
Нет. Вот он, след. Темной цепочкой по снегу белому. Тут я вчера о валежник спотыкался? Или не тут?
Я уже падать собрался – и вдруг лай собачий услышал.
– Эй! – что есть силы закричал, и бор эхом отозвался. – Здесь мы! Сюда! Э-э-эй! Ау!
Точно. Собака бежит. В ухо мне языком. Как же она до уха-то достала?
Понял.
Не трудно достать, коли мы на снегу лежим. Не заметил, как упал. Как там Ольга? Не ушиблась ли?
А она мне:
– Ты забудь о том, что меж нами ночью было. – И снова застонала.
А что было?
Я и не помню уже.
Догнала меня горячка. Настигла. Зубами вострыми вцепилась, как лиса в полевку. Сглотнула – и нет меня. В жару да в бреду растворился. Явь с Навью перепутал. День светлый с темной ночью в сумрак серый превратились. И несло меня по этому сумраку, на волнах качало, то вверх к небесам вздымало, то вниз в бездну отбрасывало.
И не вспомнить теперь, как нашли нас. Как в Киев доставили. Знаю только, что меня за побег неудачный никто не корил. То ли не поняли, как я вдруг у той речушки оказался, то ли поняли, но виду не подали. Мол, княгиню от смерти спас, а как и что там у них случилось – не важно уже. А может, Ольга меня от кары уберегла? Она мне про то никогда не рассказывала. Да и не до того нам потом было. Не до того.
6 декабря 947 г.
Разрывало меня от простуды. Кашель душил. В грудь точно кол осиновый вбили, да с крюками железными, и тянут за него – меня наизнанку распростать хотят. И душа наружу вот-вот выпрыгнет да по округе плясать пойдет. И вприсядку пустится, и с подвыподвертом, и с коленцами всякими. То ли воле радоваться будет, то ли по телу моему горевать. Жаром жгло. От жара вздор в голову лез. Чушь всякая грезилась. То Красун ко мне приходил. Все корил, что варяжку спас, а его не пожалел. То Свенельд надо мной смеялся. Подначивал.
И я уже не я вроде, а крысюк в бочке. Жмусь к стенке железной – студено мне. Боязно. А супротив недруг мой шерстью серой ощетинился. Усищами шевелит, носом-пуговкой поводит, точно вынюхивает меня. Хвостом, как бичом, пощелкивает.
Унюхал. На меня бросился. Клыками в горло вцепиться старается. Лапами когтистыми по груди царапает. Сейчас придушит меня и на прокорм пустит. Не желаю я в снедь идти. Отбиваюсь. Хлещу хвостом по бокам вражьим. Зубы его своими зубами встречаю. Из объятий его вырываюсь. От шерсти, что в рот набилась, отплевываюсь. Наседает он. Наскакивает. Писком пронзительным меня изводит. Коготком глаз мне вырвать хочет. Словно знает, что из бочки наружу лишь один живым выйдет.
А сверху то луч солнечный пробивается, то тень накрывает. Это люди над бочкой склонились. Ревут радостно. От рева по бочке эхо раскатывается, нас с толку сбивает. И от этого злость во мне в ярость оборачивается. И уже не я от него, а ворог от меня бегать начал. От нападок моих уворачивается. Хвост свой лысый жмет. Только нет во мне сострадания. Озлобление мне глаза застит. Смерти его хочу. Крови жажду. Прижал супротивника к железному полу. Лапами горло ему сдавил. Уже не пищит он, а только повизгивает. Я уже победу чую. Ликую ошалело. И вдруг вижу, что у противника вовсе не морда крысиная, а лицо человечье. Мое лицо. И не крысу я давлю, а себя убиваю. И тогда закричал я. И крика своего устрашился…
– Добрыня! Добрынюшка! Тише! – слышу голос ласковый.
Голос этот я ни с чем не спутаю. Так только Любавушка моя нашептать может. Значит, один мой бред на другой наехал. Значит, наваждение продолжается.
– Милая моя, – я в ответ. – Как же рад, что пришла ты ко мне. Хоть навкой, хоть мороком бестелесным, – говорю, а глаза открыть боюсь.
Знаю, что растает она. Дымкой улетучится. Туманом расползется. Лучше уж так, как есть. Голос ее слышать. Ладонь ее мягкую на щеке чувствовать.
Ладонь?!
Какая же ладонь у морока?
– Любава? – не утерпел я, веки тяжелые поднял.
Не растаяла она. Не исчезла. Надо мной склонилась. На лице улыбка, а в глазах нежность.
– Любава! – крикнул, но крик мой шепотом обернулся. – Ты тоже умерла? Так вот он какой, светлый Ирий!
– Ну, чего ты, дурной? Рано нам помирать. В жару ты, Добрынюшка, только кончится это скоро. Ты же помнишь, что ведьма я? Худое уже позади. Теперь на поправку пойдешь. Тебе теперь поберечься надобно.
Какое беречься? У меня от нежданного счастья такого голова кругом пошла.
– Так как же это? Так откуда же ты? Так где же мы? – Руку ее схватил и к губам прижал.
– Будет, – улыбнулась она, – будет тебе. В Козарах мы, у Соломона на подворье. В дому его. Лекарь в граде. В тереме княжеском он варяжку пользует. На ноги ставит. А тебя велели сюда принести, под мою опеку.
– Давно мы здесь?
– Да уж поболе седмицы. Я же теперь в помощницах у него.
– Как же так?
– Да вот так. Считай, два лета в неведенье промучилась. Батюшка с матушкой уговаривали, чтобы дома тебя дожидалась. Не хотели меня к полянам отпускать. Боялись, что обидеть в дороге могут. Вот и маялась в разлуке, были бы крылья – в Киев бы улетела. Уж больно с тобой повидаться хотела. А тут и случай подвернулся. Как снег лег да реки встали, пришли к нам варяги. Ругу от земли Древлянской для Руси собирали, а дядька Куденя у них за обозного. Я с обозом и пристроилась. Долго мы от одного подворья к другому ходили, с огнищан подать брали. Наконец сюда пришли. В град меня не пустили, так я стала подворье Соломоново искать. Мне люди добрые на этот дом указали. Как узнал лекарь, что я Берисавы-ведьмы дочка, сразу принял меня. Рассказал, что жив ты, что здоров. Да вот незадача, я же сюда пришла в тот день, когда вы на охоту уехали. Я Соломона упрашивать стала, чтоб он в дому своем меня приютил хоть поломойкой, хоть стряпухой, хоть за свиньями смотреть. А он рассмеялся.