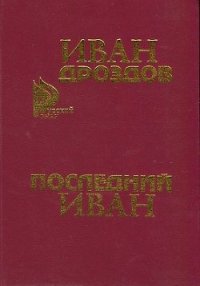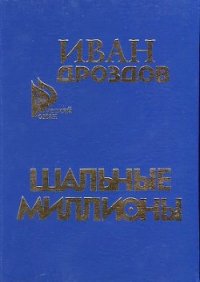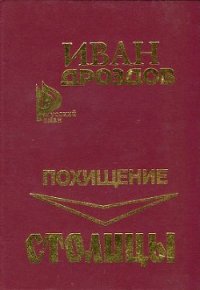Филимон и Антихрист - Дроздов Иван Владимирович (читать книги без txt) 📗
Придя в свою слепую комнату — в ней было всего лишь одно окно, — Николай Авдеевич раздал сотрудникам иностранные журналы, предложил прочесть новые статьи, а сам вместе с Краевым занялся прибором.
— Ну что, волшебник, как наши дела? — раздался за спиной голос.
Повернулся: у плеча стояли Бурлак и Зяблик. Дурное предчувствие шевельнулось под сердцем. «Зачем-то они припожаловали?..»
— Скоро твой Импульс оживёт? — подчёркивая давнее знакомство и дружелюбие, заговорил заместитель министра.
— Группу Филимонова усилим, — пообещал Зяблик, делая широкий жест и улыбаясь всем сотрудникам. — Новые приборы выпишем, помещение расширим — будет Импульс, будет, Вадим Назарович!
Филимонову сказал:
— Завтра пойдите к Дажину, пусть для вас выпишет персональный компьютер. Последнюю модель — IBM РС.
Заместитель министра тем временем прошёл в дальний угол комнаты, — там за столом при свете настольной лампы читала английский математический журнал Оля — младший научный сотрудник группы. Она была дочерью Второго человека в государстве, и Бурлак, бывая в институте, старался увидеть её, поговорить. Не однажды он предлагал Оле перейти в лабораторию престижную, перспективную, но она верила Филимонову и всеми силами старалась ему помочь.
Бурлак низко наклонил голову:
— Здравствуйте, Ольга Ивановна! Не стану говорить вам комплименты — ваш юный вид, цветущее чело…
— Спасибо, Вадим Назарович! Мы все тут цветём и благоухаем. Да и как иначе! Комната у нас хорошая, светлая… — Слово «светлая» Ольга произносит громко и с нажимом. И продолжает: — Говорят, её под склад назначали, но Артур Михайлович… он тоже нас любит, — нам её отрядил.
Зяблик подаёт свой голос:
— В соседней комнате есть стол и место для вас.
— Я не хочу сидеть в соседней комнате.
— А здесь мастерская. Вон… — столы для монтажа.
Вновь говорит Бурлак:
— А как батюшка? Слух прошёл — приболел он.
— Спасибо за беспокойство. Теперь ему лучше. Я вам дам телефон, позвоните ему сами.
— Спасибо, спасибо! — поднимает руки Бурлак. — У меня есть телефон.
— Может быть, привет передать? — продолжает язвить Ольга.
— Ну нет, не нужно. Мы не так коротко знакомы. К сожалению, не коротко.
С тем начальники удаляются. Учёные долго ещё смотрят на дверь, затем Василий, пожимая плечами, произносит:
— Странно!
— Мда-а… Посмотрим, — заключил Филимонов и отвернулся к окну. Поза его и черты лица принимали то характерное, знакомое каждому сотруднику выражение, которое обыкновенно раньше всех улавливалось Краевым и сопровождалось жестом слесаря: «Считает».
Заместителя директора по хозяйству Дажина Николай Авдеевич не любил и относился к нему настороженно. И, может быть, эту настороженность заметил в нём всегда и всем улыбающийся Евгений Вацлавович Дажин. Он по этой причине и здоровался с Авдеичем особенно приветливо, дольше обычного задерживал руку, щуря плутоватые глаза, в которых гнездилась, вечная тревога. И всё его бесформенное, мясистое пугливое лицо как бы говорило: «А ты, молодец, сноровист, из тех, кого следует опасаться». Раскачивал сутуловатую фигуру, широко улыбался, открывая ряды золотых крупных зубов.
— А-а, Филимон! Заходи, любезный, заходи… Что-то я вас давненько не вижу, всё прячетесь от меня.
Любопытно, что и Зяблик, и Дажин — да и заместитель министра Бурлак! — людей, ниже себя стоящих, чаще всего называли на «ты» и лишь затем, вероятно, вспомнив о вежливости, переходили на «вы».
Дажин, сверх того, был единственным человеком, кто не за спиной, а в глаза называл Авдеича Филимоном, — то ли по рассеянному недомыслию, то ли умышленно, желая подчеркнуть ироническое, усвоенное всеми в институте отношение к руководителю группы Импульса. Дажин, проговорив витиеватое приветствие, откинулся на спинку кресла, потирал руки — будто от удовольствия, от радостного возбуждения; и дышал шумно, и губами, языком издавал весёлые щелкающие звуки. Посетитель, приятно изумлённый ободряющими словами, пытался выразить признательность, но взгляд хозяина уплывал куда-то, оставался далеко, где именно — тоже неизвестно, и к посетителю постепенно являлось отрезвление, и он морщил лоб, вспоминая, зачем же пришёл.
Филимонов за долгие годы работы знал всё это и сразу приступил к делу:
— Артур Михайлович вчера обещал мне компьютер… Последнюю модель.
Сумеречная синева в глазах Дажина превратилась в ночную, но улыбка шире засверкала золотом:
— Николай Авдеевич! Любезный вы мой дружище! Я что-нибудь жалел для вас?.. Скажите, жалел?.. Вот сейчас выпишем и будет на столе у вас эта живая фантастика.
— Ремонт у нас затевают. Нам бы помещение на время ремонта.
— Будет! И кабинет отдельный, и для ребят комната — будет! У меня роднее вас… Вы же знаете!
— Спасибо, Евгений Вацлавович! Душевно вас благодарю!
«Не любил я его, при встречах кивал небрежно, а он — видишь, старается», — думал Филимонов, наблюдая за рукой Дажина, писавшего разрешение на выдачу компьютера. И к Зяблику шевельнулось хорошее чувство. «Он теперь голова в институте, ему дела нужны, — так, может, помогать нам станет?»
Распалялась в душе досада на собственную невежливость, неуклюжесть в отношениях с людьми: «Сам я во всём виноват! Сам, сам…» «Ум без разума — беда!» — вспомнилась народная пословица. Ум-то есть, да однобокий, математический, вот с разумом… Маркс, кажется, сказал: «профессиональный кретинизм». Эх, Филя ты простофиля! Клички-то недаром люди дают.
Дажин подписал бумагу, помахал ею перед носом Филимонова, но отдавать не торопился. Вышел из-за стола, подгрёб Авдеича рукой:
— К ней пойдем, ей покажем, любезный, — Матушке Бэб.
Захолонуло сердце Николая, точно в душу ледяной воды плеснули. Мама Бэб располагалась в конце коридора, в кабинете с надписью «Консультант». Никто не знал, кого она консультирует и зачем консультирует. Прежде, в оные времена, когда у многих сотрудников хромала грамота, в институте была учреждена должность редактора — для подправки бумаг, выходящих из института. Другие же говорили, что должность специально учредили для непутёвой дочки какого-то важного человека из правительства. Однако толком объяснить эту должность никто не может. Одно тут знает каждый: всякая важная бумага не минует этого кабинета. «А-ба-ши Киркли!» — хохотал он на даче до упаду, до слёз. Вот и досмеялся!
Мама Бэб не ставила резолюций и подписей — слов никаких не тратила, — обыкновенно принимала бумагу и, не взглянув на неё, клала или на правый угол стола, или на левый. На левую часть стола — со стороны двери — укладывается большинство бумаг, они затем перекочевывают в стеллажи и лежат там плотными пачками без движения, покрываясь пылью. Иные пачки пожелтели, подёрнулись не пылью, а каким-то седым слоем — умершие надежды, придушенные на корню мечты. Институтские острословы втихомолку, в тряпочку, конечно, подтрунивают над Мамой Бэб, называют её Бермудским треугольником. Но это тихо, настолько тихо, что редкий слышит такое суждение. Петя Редькин, будучи сильно навеселе, заверял товарищей, что Мама Бэб не знает грамоты — совсем не знает! — и что бумаги берёт на ощупь; каким-то особым чутьём слышит милых и постылых. Милым даёт ход, постылых — на стеллажи. Несерьёзный человек этот Редькин! Как он только в институт попал.
В кабинет вошли тихо и, может быть, потому остались в первую минуту незамеченными. Если Дажин, приветствуя вошедшего, говорит: «А-а… Заходите, любезный, заходите, Чтой-то я вас давненько не вижу, всё прячетесь от меня…», то Мама Бэб голову к вошедшему повернет не сразу, а, повернув, скажет: «Вы ко мне, надеюсь?..»
Чёрная шерстяная кофта, чёрная длинная юбка, чёрный бант, скрепляющий на затылке волосы, лицо, потемневшее от времени, — всё в ней было ветхо, старо и непроницаемо темно. Она походила на упавшую в сырую канаву птицу неопределённого вида; она там долго лежала и уж совсем занемогла, но её, ещё сохранившую признаки жизни, вытащили, обсушили и… поместили в кресло.