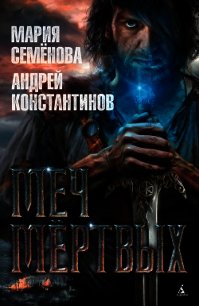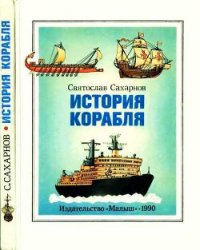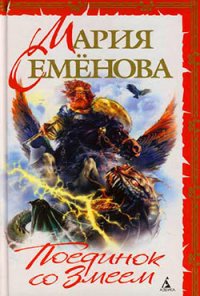Лебединая дорога - Семенова Мария Васильевна (библиотека книг txt) 📗
Вечером в Урманский конец пришла вышивальщица Любомира.
— Мне бы к Туру Годиновичу, — смущенно сказала она караульщику, встретившему ее у незапертых ворот. И пояснила:
— Он кику мне богатую вышить велел… Вот я и принесла.
Красивый хромой урманин по имени Эйнар, стуча костылем, повел ее к дому.
— Как он… Годинович-то? — спросила Любомира робко. Эйнар не ответил, только сумрачно махнул рукой.
Торгейр сын Гудмунда лежал на спальном месте, которое хозяин дома, Хельги, еще при вселении отвел ему рядом со своим. Резная скамьевая доска, придававшая постели такой уютный вид, была снята. И Торгейра Любомира увидела сразу.
Глаза его были закрыты, а лицо казалось иссиня-белым даже в теплом свете очага… Только клеймо на лбу, между прядями темных волос, было, как всегда, красно-багровым.
Собственное дыхание вдруг показалось Любомире непомерно шумным.
— Годинович…
Торгейр не отозвался, даже не пошевелился, но что-то сразу изменилось в его лице, сказав ей: он слышал.
— Я кику принесла, ты вышить велел… Она развернула ее, принесенную от посторонних глаз в платочке, и радужный бисер так и вспыхнул сотнями цветных огней. На кике скалились, извивались, сплетались два диковинных зверя.
Хельги, сидевший подле побратима, и тот повернул голову полюбоваться.
Любомира положила кику возле руки больного. Торгейр чуть приоткрыл глаза, чтобы посмотреть на любимую. И шевельнул пальцами, отодвигая убор. И прошептал:
— Это… тебе…
— Мне?
Торгейр не ответил. Любомира нерешительно взяла кику, подержала ее в руках, точно не зная, что с ней делать. Потом вновь завернула ее в платок.
— Пойду я…
— Мирошка, — вдруг проговорил Торгейр внятно.
Любомира остановилась. Один-единственный звал ее так. Муж, Ждан-гридень.
— Пойду я, — повторила она. И увидела, как в бескровном лице раненого снова что-то неуловимо изменилось.
— Иди…
Вздохнула Любомира, с трудом отвела в сторону взгляд. Спрятала кику, переступила с ноги на ногу… и никуда не пошла. Хельги молча поднялся, уступая ей место.
Совсем поздно, уже почти ночью, в Урманский конец явился нахмуренный Лют. Он вел за руку малолетнего Ждана Ждановича, обиженно хлюпавшего носом.
— Мамку его ищем, — объяснил Лют тому же Эйнару. — Люди сказывают, к вам пошла…
Наконец весь город угомонился до утра. Уснул Урманский конец; только немногие женщины сидели над ранеными мужьями, да еще Любомира, подперев голову рукой, все глядела на тихо и ровно дышавшего Торгейра. Сынишка спал возле херсира, в ногах, свернувшись калачиком под меховым одеялом, благо лавка была широченная. А по лицу Любомиры бродили не то отсветы очага, не то тени раздумий — о сиротской вдовьей судьбе и о будущем, которое посулил ей этот израненный калека-урманин, такой непохожий на ее удалого, веселого, бесшабашного Ждана…
Спали на другом берегу и Верхний, и Нижний конец. Спали в Старом дворе Чурила Мстиславич и молодая княгиня. А в Новом, в просторных резных сенях, — устроеные с великим почетом Олеговы варяги.
И только в высоких хоромах боярина Вышаты, в чистой ложнице, все не угасал в мерянском глиняном светильничке узкий огненный язычок. Сцепив за спиной руки, ходил и ходил по знакомым до сучка половицам старый боец.
Невеселая дума тяжким облаком лежала у него на челе. Если и не сложит он буйной седой головы в лихом бою, под славным кременецким стягом, — быстро минет еще пять, ну десять лет… и поселится в таких еще сильных руках противная старческая дрожь. А там и смертные сани подкатятся, неслышные, по белому ли снегу, по зеленой ли траве…
И кому оставит он, Вышата, высокие хоромы, широкий двор, всей жизнью накопленное богатство?
Не было у него на этой земле наследника. Продолжателя. Сына. Трое звались, правда, Вышатичами, да что толку.
Вот и шагал из угла в угол, мерил ногами ложницу неудержимый в сечах воин. Любим! Румяное яблочко, а внутри — червячок… Куда, старый, смотрел? Что не брал с собой ни в поход, ни на зверя? Жалел, берег? Кто Люта берег? То-то он, не Любим, и щит возит за князем, и копье. Лют — сын настоящий, сын — любому на зависть. Да только слова такого не знает — отец… а кто в том виноват?
Вышата оперся руками о стол и даже застонал, как от боли. Тихо, больше про себя, чтобы не услыхал прикорнувший за дверью слуга. Да какое от боли — это-то он бы вытерпел молча…
Одна была у него родная кровиночка, дочь, доченька… Нежелана… Сам не понимал теперь боярин Вышата, как повернулся у него язык дать ей, единственной, неласковое, недоброе имя… Ненаглядой звать бы ее, лебедушку, Зареной, Надежей, Любавой…
Представил боярин смеющееся лицо дочери — и будто солнце глянуло в душу.
Да ненадолго. Скоро, скоро отыщется на его лебедь сизокрылый орел — налетит неведомо откуда, скогтит, и поминай как звали. И останется он, старый, один, совсем один…
Тихо, не разбудив спавшего раба, приоткрылась дверь — Вышата и тот не услыхал и даже вздрогнул от неожиданности, — и в ложницу бочком скользнула Нежелана.
— Звал, батюшко?
Она куталась в длинный шерстяной плащ, в котором ездила верхом. Из-под плаща выглядывала вышитая рубаха, на щеках лежал сонный румянец.
— Не звал, — с привычной суровостью буркнул Вышата.
Нежелана подошла к нему, снизу верх заглянула в глаза, ласково потерлась щекой о его плечо.
— А я проснулась, показалось — зовешь… Повернувшись, боярин взял ее за плечи, притянул к себе, обнял, зарылся лицом в теплые волосы. Нежелана обвила руками его шею, стала гладить седые отцовские кудри.
— Ты не уходи, — попросил Вышата тихо. — Посиди со мной, солнышко ты мое…
После возвращения из похода князя стали видеть в городе редко. Что ни день — пропадал где-то вместе с варягом. То садились на коней и ехали смотреть округу, а заодно тревожить в чаще птицу и зверя; а то уходили на снекке далеко на великую реку и встречали там солнце, пробуждавшееся в тумане…
Олег расспрашивал обо всем, и Чурила рассказывал — прятать было нечего.
Почему-то воеводу особенно интересовали меряне: и кто такие, и как живут, и почему раньше давали дань булгарам, и как Чурила переманил под свою руку Барсучий Лес.
А вечером юная княгиня гордо разворачивала перед ними свои грамоты, и князь улыбался, слушая, как она читала любопытному гостю, откуда пошел славный город Кременец и кто издавна в нем сидел…
Олег слушал с величайшей охотой. А потом принимался говорить сам, и тут вдруг оказывалось, что и к ним на море Варяжское приходили когда-то трое братьев, не менее славных, чем кременецкие пращуры… И тут уже Звениславка хваталась за бересту и костяное писало, и Чурила, не первый год потихоньку над нею смеявшийся, щурил глаза, и шрам на его лице разглаживался, пропадал.
Он смотрел на жену, прилежно выводившую буквы. Слушал вполуха и все представлял, как она будет качать вот на этих руках маленького пискливого сына… или дочь…
Старый Мстислав из дому выползал по-прежнему нечасто. Но все творившееся в городе и вокруг знал получше любого здорового. Усевшись на солнышке, князь подолгу наблюдал за вагирами, поселенными у него в Новом дворе. Слушал, как они говорили между собой на своем языке, столь родном словенскому и все-таки чужом.
Как, поминая Олега, опять уехавшего куда-то с Чурилой, неизменно прибавляли: храни его Святовит…
Бог этот, Святовит, жил далеко, на острове посреди Варяжского моря, в священном граде Арконе. И туда, к руянам, рассказывали, съезжалось молиться все варяжское побережье. Не один месяц пришлось бы человеку ехать туда из Кременца, но Боги — не люди: без помех протягивают руку над сушей ли, над морем… Или не сидел в Ладоге Рюрик, и не сновали по озерам и рекам проворные снекки, и не становилось их, что ни год, все больше?
— Хочу в другой ваш город сходить, — сказал однажды Чуриле Олег. — В Круглицу. С Радимом Радонежичем познакомиться хочу, посмотреть, что за муж такой буйный да гордый. Не осерчаешь?