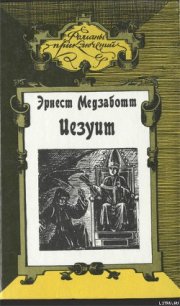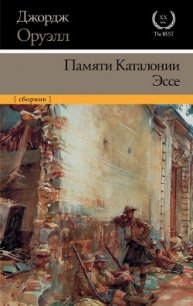Иезуит - Медзаботт Эрнест (бесплатная библиотека электронных книг TXT) 📗
— Господин герцог, — сказал главный палач Монморанси, — я имею некоторые основания думать, что дело обойдется само собою. Яма, где сидит арестант, сильно расстроила его здоровье, его телесный недуг быстро развивается и, мне кажется, он скоро должен перейти в иной мир.
— Как это ни будет скоро, но для меня может показаться слишком долгим. Быть может, смерть его мне понадобится через день, через час!
— В таком случае, — сказал, оскалив зубы, палач, — почему же вы не даете мне приказание покончить с ним разом?
— Не могу, Черный Конрад, король взял с меня клятву, чтобы я не убивал пленника. Нам остается одно средство: довести до полного отчаяния арестанта, чтобы он сам с собой покончил.
— В таком случае, можно устроить таким образом, что в самоубийстве не будет сомнения.
— Нет, Конрад, нельзя, я дал клятву на образе чудотворной иконы, которую епископ Английский сам повесил на шею королю. Нет, нет, Конрад, я не могу быть клятвопреступником — это смертный грех!
Конрад ничего не ответил, он давно привык слепо повиноваться воле господина. Притом же палач был человек своего времени. Подвергнуть жертву адским мукам, довести ее до полного отчаяния, предоставить все средства к самоубийству — это можно, но нарушить клятву, данную на чудотворной иконе, — смертный грех.
— Возьми фонарь и пойдем, — сказал после минутного молчания герцог.
Конрад зажег фонарь, нажал пружину, и в стене открылось большое отверстие. Оба осторожно стали спускаться вниз, в подземелье, по крутой лестнице. Несколько раз герцог чуть не упал, скользя по влажным ступеням, а его спутник смело шел, как видно, привыкший к этому маршруту.
— Скоро ли дойдем? — спросил Монморанси, останавливаясь на одной из площадок.
— Еще немного нужно спуститься вниз, монсеньор, мы уже находимся близ леса; слышите, как сладко пташки поют? — добавил палач, холодно улыбаясь.
И действительно, вскоре, будто из недр земли, послышались шум, крики, плач, рыдания.
— Они все обозначены в списке? — спросил герцог.
— Да, монсеньор, только одного я не записал — мужа молочницы Пьерины Доменико.
— Это каким образом? Кто осмелился посадить в яму Доменико, который был всегда верным и послушным слугой.
— Герцог де Дамвилль, старший сын вашей милости приказал.
— Мой сын? Хорошо же он начинает в восемнадцать лет. За какое преступление он наказал Доменико?
— Вашей светлости, вероятно, известно, что герцог де Дамвилль оказывал некоторое внимание Пьерине, что весьма естественно. Представьте себе, до какого безумия дошел Доменико, что осмелился запретить своей жене ходить к герцогу и даже ее ударил, когда заметил на лице ее улыбку.
— На сколько же времени герцог приказал арестовать Доменико?
— До тех пор, пока не получат приказа о его освобождении, но так как господин герцог вчера уехал в свои владения Дамвилль, то приказ этот едва ли скоро последует.
— Хорошо, сегодня вечером выпустить Доменико и сказать, что герцог Дамвилль, ввиду слезной просьбы Пьерины, прощает его. Затем послать гонца к герцогу с приказом от моего имени немедленно вернуться в Париж.
— Слушаю, ваша светлость, все будет исполнено по вашему желанию.
Наконец они дошли до самой нижней части тюрьмы. Здесь зараженный воздух, страшные вопли, раздававшиеся со всех сторон, олицетворяли собой ужас католического ада, так картинно рисуемого благочестивыми отцами иезуитами.
— Открой дверь каземата и наблюдай, — сказал Монморанси. — Однажды раздраженный пленник разорвал цепи и, чуть было, не убил меня.
— Монсеньор, можете быть совершенно спокойны, — сказал осклабясь палач, — цепи, скованные мной, никогда не разрываются.
Дверь каземата была открыта. Вонь была нестерпимая. Свет фонаря тускло осветил ужасную картину. На низком каменном ложе виднелась неясная масса лохмотьев, цепей и человеческих членов; два огненных глаза казались одни живыми на лице, заросшем белой всклокоченной бородой. Почти нагое исхудалое тело приподнялось, пленник сел на своем ложе. Это был человек до крайности изнуренный, но лицо его и до сих пор носило следы красоты. Арестант, увидя вошедших, бросился на них со сжатыми кулаками и, сдержанный цепью, прикованной к стене, бессильно упал на скамью. Вошедшие злобно расхохотались.
— Напрасно ты делаешь такие скачки, мой милый, — сказал палач, — ты можешь сломать себе кости; ведь эти цепи скованы мной специально для тебя.
— Убирайся вон, — вскричал Монморанси, — я желаю остаться один с пленником.
Палач ушел.
При звуке этого голоса пленник задрожал.
— Герцог, — прошептал он. — Боже мой! Боже мой!
— Да, — сказал Монморанси, — это я, которому ты изменил в дружбе, которого ты опозорил, соблазнив его жену. Теперь смотри на меня, граф Вергиний де Пуа, и скажи мне откровенно: чье положение лучше, твое или мое?
— Он мстит, — тихо лепетал узник, — наказывает меня, Бог с ним!
— Может, Бог тебя и простит, — отвечал грубо констабль, — но мое проклятие и моя месть неизменны.
— Я терплю мучения ада, — шептал узник.
— О, я вполне понимаю, это не прелестный альков замка Дамвилля, солома несколько тверже мягкой брачной постели, прикосновение цепей не так приятно, как нежных ручек герцогини Джульяны; что же делать, мой милый? Нужно применяться к обстоятельствам; так свет устроен.
— Наконец, что же ты хочешь от меня? — вскричал узник в припадке отчаяния. — Надеюсь, что теперь твоя месть удовлетворена?
— Моя месть удовлетворена? — отвечал с адским хохотом Монморанси. — Как мало ты меня знаешь, граф Вергиний, а еще мы были с тобой когда-то друзьями. Если бы я видел тебя в глубине ада, терзаемого демонами, если бы я был убежден, что твоя бессмертная душа обречена на вечные мучения без конца, и тогда едва ли я утешился бы. Но, несмотря на все это, я пришел предложить выход из этого страшного положения.
Узник приподнялся на колени, внимательно слушая Монморанси, и в его потухающих глазах загорелся луч надежды.
— Хочешь ли ты, — начал герцог после нескольких минут размышления, — хочешь ли заменить ужас тюрьмы спокойным житьем в монастыре? Взамен этих цепей опоясаться монашеским поясом и окончить жизнь в раскаянии и молитве?
Узник жадно ловил каждое слово герцога.
— О, Монморанси! — вскричал он. — Если ты дашь мне эту милость, ты будешь великодушнейшим из людей, и я окончу мою жизнь молитвой к Богу, дабы он простил мои грехи и твои.
— Это будет зависеть от тебя.
— От меня! Да разве ты можешь думать, что я буду колебаться, принять какие бы то ни было условия?
— Прекрасно. Подпиши эту бумагу, и цепи твои сегодня же спадут.
Узник взял бумагу и прочел следующее:
«Я, нижеподписавшийся граф Вергиний де Пуа, маркиз де Мевилль, владелец де ла Форте, де Дигане и других мест, кавалер святого Михаила, клянусь перед Богом и людьми удалиться от мира и окончить жизнь мою в монастыре.
Вследствие чего отдаю все мои владения, титулы, богатство и привилегии моему дорогому племяннику Арриго, герцогу де Дамвиллю, сыну монсеньора Монморанси — великого констабля Франции.
Моего сына Карла, именующегося графом де Пуа, объявляю незаконным».
— Наглец! — вскричал узник, бросая бумагу в лицо Монморанси. Последний не обратил на это никакого внимания и спросил:
— Хочешь ты подписать бумагу или нет?
— Чтобы объявить незаконным сына самой святой женщины, которая когда-либо существовала на свете! Лишить его привилегий? Ты, верно, обезумел! Где же я мог бы найти убежище против моей совести и против справедливого гнева Господа Бога?
— Но все равно твой сын не будет иметь ничего, твои владения описаны. Если они перейдут в мое семейство, то сын твой Карл может рассчитывать на наше великодушие, иначе он умрет с голода, ибо владения графа де Пуа должны перейти к графине де Брезей, герцогине де Пуатье.
— Пусть будет что будет, — отвечал несчастный, — но я не желаю разорять и предавать позору моего сына. Я скорее готов сжечь мою руку, чем подписать этот гнусный документ. Ты мог сковать меня цепями, подвергнуть страшным мукам, но тебе не удастся сделать меня сыноубийцей!