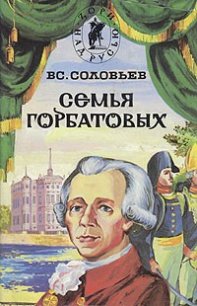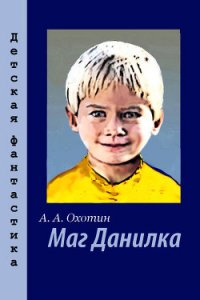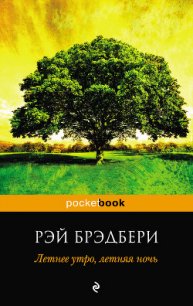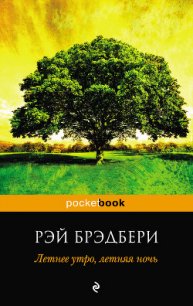Семья Горбатовых. Часть первая - Соловьев Всеволод Сергеевич (е книги .txt) 📗
В этой атмосфере мог себя хорошо чувствовать только человек ни над чем не задумавшийся, не имевший за душой ничего близкого, ничего дорогого и святого…
Толпа сновала взад и вперед. Иные останавливались и бесцеремонно усаживались на ступенях подъезда отеля, в котором жил Сергей Горбатов. Несколько человек прислуги, вышедших из отеля, вступали в беседу с проходящими и отдыхавшими на подъезде; только в числе этой прислуги, конечно, не было ни одного русского человека. Все люди, привезенные Сергеем из Петербурга, а их можно было насчитать около дюжины, выходили на улицу только в крайнем случае. Если хозяина не было дома, они обыкновенно собирались в кухне и толковали о своем горестном положении, о том, скоро ли придется вернуться на родину.
Так было и теперь. Хозяин уехал — он в это время в гостиной герцогини с тоскою и изумлением слушал россказни графа Монтелупо, — и его ожидали домой во всяком случае не раньше полуночи. Только в кухне да в сенях виднелся свет. Обширные и роскошные покои стояли почти в полном мраке, слабо озаряемые едва мелькающим отблеском уличных фонарей. Впрочем, в отеле была одна небольшая комната, вблизи от спальни Сергея, в которой был зажжен огонь — эту комнату занимал карлик Моська.
Грустно проводив Сергея — он, конечно, хорошо знал, куда отправляется «дите» каждый вечер, — Моська прошел в свою комнату и улегся на свою маленькую кроватку. Сон составлял теперь его единственное утешение, но он редко мог пользоваться этим утешением — совсем плохо стал спать. Вон и теперь, как ни старался он, а все же никак не мог заснуть, только поворачивался с боку на бок, старался найти какое-нибудь самое удобное положение — то нога, то рука помешает, то уху почему-то совсем неловко и даже больно.
— Нет, не заснешь! Нечего валяться! — прошептал Моська и слез с кровати.
— А и стужа в комнате! — продолжал он свой шепот — думать вслух была его старая привычка. — А и стужа же, оно немудрено, как там ни говори, все ж таки хоть и французская, а ведь зима!.. Даром, что снег пойдет и в ту же минуту растает… а утренники порядочные стали… Ну, а в доме вон и зимних рам нету — от окошек, как из пропасти, дует.
Он сел на кроватку и оглядел комнату. Комната его была небольшая, но уютная, с двумя светлыми, широкими окнами, с мягкой, низенькой мебелью, с камином. Когда Сергей Горбатов въехал в отель и решено было, что карлик займет эту комнату, она ничем не отличалась от подобных же помещений в богатых парижских домах. Но не прошло и недели, как внешность ее совсем изменилась. Остался только лепной, высокий потолок да камин с широким зеркалом в золоченой раме и двумя прекрасными севрскими вазами.
Моська устроил себе детскую кроватку с высоко взбитыми пуховыми неринами и целым десятком подушек, мал-мала меньше, возвышавшихся пирамидой у изголовья. Кровать была покрыта ватным одеялом, состоявшим из разноцветных треугольников и квадратиков всевозможных материй, очень красиво подобранных и сшитых. Это одеяльце было сшито в Горбатовском по приказанию Марьи Никитишны, даже под ее личным руководством, и подарено ею Моське в день его ангела.
В правом углу комнаты помещался киотик с образами, перед которыми горела неугасимая лампадка. Тут же была воткнута и верба, и тоненькая восковая свечка с налепленными на нее двенадцатью восковыми катышками. Эту свечку Моська хранил от последнего Великого Четверга, от «двенадцати Евангелий». В киотике же помещалось, вместе с образами красное пасхальное яичко, два пузырька, заткнутых воском и заключавших в себе один — святое масло, другой — святую воду. Тут также лежали и ватка от «Иверской», и колечко от святой великомученицы Варвары.
Самое видное место в киоте занимал образ преподобного Сергия, с висевшим на нем тоненьким шелковым пояском. На этом пояске была выткана молитва угоднику и три раза покоился этот поясок на мощах преподобного.
Моська сам привез его от «Сергия-Троицы» в последний раз, как был там. Он хотел, было, как в прежнее время, опоясать им Сереженьку, да тут же и раздумал.
«Бросит дите неразумное, не станет носить святыню… француз проклятый надругается только!..»
Но никому не подарил Моська этого пояса и вот теперь аккуратно каждый вечер вынимал его из киота и незаметно клал под подушку Сергею.
По стенам Моськиной комнаты были развешаны, гвоздочками приколоченные, плохие гравюры библейского содержания и лубочные картинки, по большей части изображавшие «адские мучения». Карлик чрезвычайно любил подобные картинки или «листы», как он называл их. Особенно же нравились ему «мучения грешников», и чем такая лубочная картина была безобразнее, тем более находил в ней прелести Моська. Иногда, в свободные минуты, он останавливался перед «адскими мучениями» и смотрел на них долго, не отрываясь. Воображение его, прицепившись к какой-нибудь отвратительной фигуре черта с хвостом и бычачьими рогами или поджигаемого грешника, похожего на что угодно, только не на человека — рисовало ему грандиозную и страшную картину, и Моська трепетал от ужаса.
Он собирал эти листы всю свою жизнь и никогда не расставался с ними. Уезжая куда-нибудь, он снимал их со стены своей комнатки в Горбатовском, сдувал с них пыль, свертывал их в трубочку и тотчас же по приезде в Петербург или в Москву, или вот теперь в Париж прибивал их к стенам своего нового помещения. Картинки были отрепаны, запылены, засижены мухами, но по-прежнему милы и дороги Моське.
У окошка на столике стоял поднос, кувшин с квасом и опрокинутый стаканчик. Моська не мог жить без квасу и первым делом позаботился о том, чтобы в числе штата, взятого из Петербурга заграницу, находился и один из Горбатовских поваров, специальность которого была приготовление самого вкусного и почти даже целебного кваса. Рецепт этого кваса в числе многих других, приятных и полезных для домашнего обихода секретов принесла с собою Марья Никитишна в горбатовское хозяйство.
Посреди комнаты стоял другой, довольно большой стол на коротеньких ножках и перед ним маленькое, покойное креслице. На столе лежало несколько книг, чернильница, перья, бумага. Это был письменный стол карлика; тут он работал по несколько часов в день, сочиняя письма для прислуги, для поваров и лакеев, привезенных из Петербурга. Они истомились тоской по родине и находили единственную отраду посредством Моськи беседовать со своими присными о «всяких здешних басурманских мерзостях».
Дверь в Моськину комнату всегда стояла на запоре. Он не любил, чтобы кто-нибудь без него входил в его помещение. Он вставал всегда чем свет и сам убирал и выметал свою комнату, а выходя, запирал ее и ключи клал в кармашек камзола. Поэтому-то в целые дни запертой Моськиной комнате, как в Горбатовском, в Петербурге, так и здесь стоял особенный запах лампадного масла, мятного квасу и еще чего-то неуловимого, но ничуть не противного, а приятного даже, одним словом, запах монастырской кельи.
Сергей с детства знал и любил этот запах. У него всегда как-то спокойно и тихо становилось на душе, как только он его заслышит и поэтому нередко он заглядывал в Моськину келью. Заглядывал он в нее и теперь, в это последнее время, только уж Моськин воздух не производил на него прежнего умиротворяющего действия. Слишком шумная и тревожная гроза бушевала в его сердце…
Моська несколько минут просидел на своей кровати, но холод начал пронимать его. Из окон, действительно, сильно дуло.
— Растопить камин, — подумал Моська, — а то того и жди лихоманку схватишь!
Он подошел к камину, растопил его и следил, как пламя перебегает с одного полешка на другое и вот охватило их все и засверкало, и заструилось, и помчалось вверх, пропадая в темном каминном устье. Дерево весело трещало, корчась и пламенея. Красный отблеск обдавал крохотную фигуру Моськи, его сморщенное грустное и значительно похудевшее в последнее время личико. Он стоял, повертываясь то одним боком, то другим к огню и становя то одну, то другую ногу на каминную решетку. Вот он и совсем согрелся, даже чересчур жарко стало.