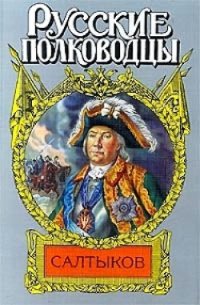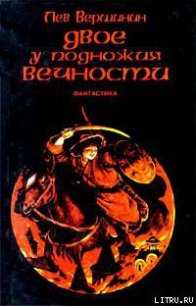Время царей - Вершинин Лев Рэмович (читать книги бесплатно полностью без регистрации txt) 📗
Однако для того, чтобы мечта стала явью, необходимо знать и уметь многое, гораздо больше, нежели он знает и умеет сейчас. И если уж выдался случай понаблюдать, а возможно, и понять один из самых тайных, ревниво оберегаемых от посторонних методов псюхэатрии, то случай этот упустить нельзя.
Сардиец почти не дышал, мысленно благодаря Асклепия, сосредоточившийся евнух, кажется, забыл о его существовании, а жуткий стратег вообще не посчитал нужным обращать внимание на нечто, ненавязчиво присутствующее в уголке.
– Попрошу господина соблюдать полную тишину… – почти скомандовал, а вовсе не попросил евнух.
И застыл напротив недужной, медленно раскручивая в россыпях отблесков, источаемых серебряными пластинами, круглый шарик синего египетского стекла, прикрепленный к витой нити.
– Ты слышишь меня? Слышишь?.. Слышишь?.. Слышишь?..
Никакой писклявости нет сейчас в этом гулком, вползающем в самое сердце голосе. Испещренное желто-красными отсветами, изможденное лицо женщины дрогнуло, ожило, легчайший намек на улыбку приподнял уголки сухого, обметанного лихорадкой рта, щеки налились румянцем, а полуприкрытые водянисто-зеленые глаза тихо закрылись, веки их затрепетали редкими ресницами…
И распахнулись, озарив мглу вспышкой юного, радостного изумрудного сияния!
В темном углу возник и тотчас умер сдавленный вздох.
А Одноглазый отшатнулся, едва не потеряв равновесия.
Он знал эти глаза! Когда-то, очень давно, они даже нравились ему, и он, безусый эфеб, мальчишка из царской стражи, не выбившийся еще и в гетайры, плакал от зависти под окнами опочивальни, до рассвета подслушивая хриплые рыки царя и счастливые стоны зеленоглазой…
– Ты слышишь меня? Слышишь?.. Слышишь?..
Конечно, слышу, – хочет ответить та, которую призвали из небытия, и не может. Она не видит вопрошающего. Голос звучит везде и нигде, вокруг, всюду, а сама она стоит, озираясь, посреди огненного коридора, меж двух серебристо-зеркальных стен, уходящих в поднебесье, и ей невыносимо страшно, ей страшно и одиноко… Но ее зовут! Она не одна! Ей помогут!.. Нужно только понять, откуда идет зов, и ответить…
– Если ты слышишь меня, ответь: кто ты?..
Да, я отвечу, – пытается выкрикнуть та, которая вернулась, – я скажу! Я – Клеопатра, македонская царевна, царица молоссов, я – мать царя, и жена царя, и дочь царя, и мне плохо здесь!.. Заберите меня отсюда!..
Но безмолвный крик гаснет, коснувшись зеркальных стен, и покоряется силе зеркал, большей, чем сила ее отчаяния…
Недаром она ненавидит зеркала… Особенно такие, громадные, идеально отполированные, прозрачные, словно родниковая вода… Бесценные серебряные озера… Почему они целы?.. Как не удосужились повалить их и разломать на доли лихие на добычу воины брата?.. Не может быть, чтобы они не побывали здесь… Брат достиг всех пределов… но отчего же он не позаботился снять редкостные диковины, чтобы порадовать мать подарком? Ведь мать любила большие зеркала, а брат любил мать, а мать – брата, и никто иной, третий, не нужен был им, они ненавидели всех вокруг, кроме друг дружки, и она, Клеопатра, тоже отвечала им тайной нелюбовью, потому что знала: придет день, и они не помогут ей здесь, в этом коридоре пламенного блеска… И муж не поможет, но на него она не в обиде. Он просто не успел ее полюбить, не имел времени, он сделал ее женщиной, посеял в лоно ее свое семя и ушел сражаться. И погиб, и не придет помочь, потому что не любит ее… Помогитеееееее!.. И сын не спасет, не протянет руку… Но он не виновен, он просто не умеет любить, не может… Но никто, кроме любящего сердца, не способен выручить, не сумеет спасти… Ах, если бы рядом была Чешмэ!..
Я слышу! Слыыыыыыышуууууу! Услышьте же меня и вы!
– Она слышит, господин, – мертво-бескровные губы евнуха едва шевелятся. – Но ответить не может. Ее психэ слишком слаба. Необходим посредник, и побыстрее. Времени немного.
– Кто?!
– Посредник. Человек, которому она верит. Которого любит по-настоящему. Как родную мать, скажем…
В уголке, припав к полу, дрожит согбенная тень.
– Она не любила мать, – содрогаясь от собственной отваги, лепечет сардиец. – Она никогда не звала ее в бреду. Ни мать, ни брата, ни мужа, ни сына… Она звала только Чешмэ!..
Никто на сей раз не осаживает врача, никто не кричит на него, не унижает, и сардиец спешит доказать свою нужность, свою полезность, свою готовность услужить великому Антигону, стратегу Азии, при пышном дворе которого, уж наверное, найдется местечко для знающего, опытного медика.
– Чешмэ, эфиопка, лесбийская подруга, – захлебываясь словами, разъясняет он, осмелившись, наконец, выползти из укромной темени. – Они не расставались, пока госпожа сохраняла рассудок… Чешмэ помогала мне в уходе за госпожой…
Антигон одобрительно похлопывает сардийца по плечу.
– Так что ж ты, любезный? Распорядись-ка!
И окрыленный провинциал кидается сквозь тьму к дверям: распорядиться.
Спустя совсем немного времени рабыня Чешмэ, совсем еще молоденькая эфиопка, поджарая и гибкая, как юная кобылица, увенчанная пышной копной мелкокурчавых волос, усажена в кресло напротив госпожи. Эбеново-черная кожа ее словно сплетается с рукотворной ночью, и лишь белки глаз да жемчуг зубов указывают на ее присутствие.
Девушке страшно, она дрожит и тихонько хнычет, но евнух уже раскрутил вновь свой шарик, и ларчик захлопывается, спрятав от нескромных взоров ровный ряд жемчужин, а черные точки перестают сужаться и расширяться, замерев посреди молочных озер.
– Ты слышишь меня? Слышишь?.. Слышишь?..
Чешмэ! Она пришла!.. Она услышала и откликнулась на зов!.. Сорвавшись с места, та, которая молила о помощи, бежит вперед по зеркальному коридору, туда, откуда донесся голос любимой… Самой любимой… Единственной, достойной любви… Она бежит, и ноги ее легки и послушны!.. Чешмэ не предала! Она здесь! Она заберет!.. Она всегда была самой верной и преданной, нежнее матери, заботливее брата, жарче и властнее, чем забытый, грубый, ненужный супруг… Сперва просто диковинная игрушка, затем подруга, понимающая с полуслова, и наконец, не сразу, нет, не сразу, – возлюбленная… Женщина мчится, раскинув руки, и кричит: «Чешмэ!!!»…А издалека откликается, отзывается родной голос… Ах, Чешмэ!.. Никому не понять, какой крепости цепь соединила нас, только нам, тебе и мне, известна ее прочность… Лесбийская любовь, воспетая великой Сафо, – вот истинная страсть, и настоящая нежность, и полное, тихое всепонимание, угадывание с полуслова, без скотства, без боли, без горьких слез, пролитых в спину храпящему, дурно пахнущему, насытившемуся мужику… Чешмэ!
– Ты слышишь?! – резко, словно плетью поперек лица.
И в тот же миг происходит то, что в первый и последний раз в жизни заставляет Антигона узнать, что же такое это неведомое чувство, называемое страхом.
Глаза укутанной вдовьим платком начинают медленно выцветать, гаснуть, подергиваться сизой поволокой… Зато меж век эфиопки, каменно застывшей напротив, резко, без малейшего перехода, вспыхивает изумрудное пламя.
– Я, Клеопатра, дочь Филиппа, слышу тебя! – едва разжимая стиснутые губы, говорит чернокожая рабыня.
– Каково тебе там, где ты есть? – бесцветным голосом спрашивает евнух.
– Плохо. Страшно. Одиноко…
Странно и страшно слышать жалобу, высказанную бесстрастно, даже равнодушно.
– Забери меня отсюда, Чешмэ…
– Я заберу тебя, госпожа. Но Харон не повезет нас бесплатно. Сможешь ли ты уплатить?
– Всем, чем укажешь…
Чуть покосившись в сторону Антигона, евнух торопливо прошептал:
– Требуй, что нужно тебе, великий. И скорее, скорее…
На миг Антигон заколебался. Он не ждал подобного. Он надеялся на беседу. Но шестое чувство, не раз выручавшее в сражениях, не подвело и сейчас.
– Ты, клинический! Папирус! Стилос! Чернила! Живо!
И, убедившись, что все необходимое подано («Не ей! Этой! Черной!» – шипит сардийцу бледный, усыпанный каплями пота евнух), быстро, торопясь, ибо и сам чувствует: времени нет, диктует, стараясь не пропустить ничего важного. Фраза за фразой, не размышляя. Все? Кажется, да…