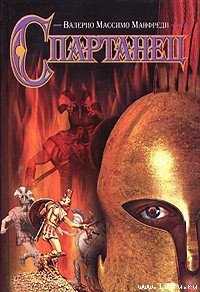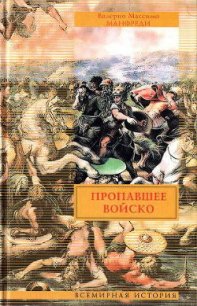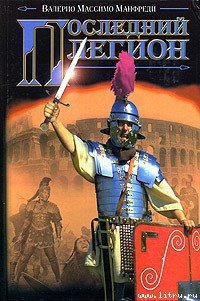Этторе Фьерамоска, или турнир в Барлетте - д'Азельо Массимо (библиотека книг .txt) 📗
Наконец итальянцы тронулись с места, но без прежнего боевого пыла; у изможденных лошадей на стертых поводьями губах выступила кровавая пена. С громким возгласом «Да здравствует Италия!» всадники вонзили шпоры в бока лошадей, и те пустились тяжелым галопом, гулко стуча копытами.
Несмотря на запрет, оглашенный перед боем, жадное любопытство зрителей толкало их все ближе к полю, и кольцо вокруг ристалища сжималось теснее и теснее. Солдаты, на чьей обязанности было поддержание порядка, сами были так поглощены этим зрелищем, что вместе с остальными постепенно двигались вперед. Так бывает, когда на рыночной площади сорвется с привязи бык: вначале каждый спокойно остается на своем месте, но едва какая-нибудь собака набросится на быка, а другая вцепится ему в ухо, не давая сделать ни шагу, — тут уж сбегутся все зеваки, поднимутся шум и крик, начнется кутерьма, — каждый хочет протиснуться вперед, чтобы лучше все разглядеть.
Посередине заново построившегося ряда итальянцев находился Фьерамоска, у которого был самый резвый конь; ближе всего к центру стояли те всадники, чьи кони были свежей и выносливей, чем у других; таким образом, когда они устремились на врага, середина ряда выклинилась вперед с Этторе во главе. Это построение оказалось настолько удачным, что итальянцы смяли французов, не дав им опомниться. Разгорелось новое сражение, еще более ожесточенное: численности, отваге, опытности итальянцев неприятель противопоставил сверхчеловеческое напряжение сил, исступленное отчаяние перед грозившим ему неминуемым позором.
В клубах пыли, храбрые и несчастные французы, обливаясь кровью, падали под конские копыта, поднимались, цепляясь за стремена и поводья победителей, и снова падали и ползли по земле, обессиленные, израненные, безоружные, в исковерканных латах. И все-таки они еще пытались собраться с силами и подбирали обломки мечей и копий, а подчас просто камни, чтоб только отдалить свое поражение.
Этторе первый закричал им, чтобы они прекратили сопротивление и сдались в плен; но его крик потонул в грохоте боя. А может быть, французы расслышали, но не приняли его предложения и безмолвно сносили сокрушительные удары, исступленно защищаясь.
Из четырех французских всадников, принимавших участие в этой схватке один был выбит из седла и сражался пешим; под двумя были убиты лошади; четвертого окружили и взяли в плен. Невозможно описать все удивительные эпизоды этого боя, безрассудные подвиги, совершенные в последние минуты и запечатлевшиеся на многие годы в памяти зрителей охваченных восхищением и ужасом.
Так, например, де Лиз схватился обеими руками за удила коня римлянина Капоччо, пытаясь разорвать их или завладеть поводьями. Лошадь топтала его копытами, но он все не разжимал рук; она протащила его по всему полю, пока он наконец не оказался перед синьором Просперо, и понадобилось вмешательство нескольких человек, чтобы заставить обезумевшего француза отпустить удила и сдаться в плен.
В конце концов сами итальянцы сочли чрезмерной жестокостью продолжать сражение. Возглас Фьерамоски был подхвачен другими, и все сообща прекратили бой, повторяя оставшимся в живых:
— Сдавайтесь, сдавайтесь! В толпе, окружавшей поле, тоже поднялся все нарастающий ропот: герольды не могли унять зрителей, которые с неистовым шумом и криками требовали окончания поединка, чтоб сохранить жизнь французских воинов. Наконец, прорвав цепь солдат, толпа ринулась на поле и встала кольцом вокруг сражающихся рыцарей в каких-нибудь тридцати-сорока шагах от них; кто кричал, кто махал платком или шапкой, надеясь остановить их таким образом, а кто взывал к судьям и распорядителям. Синьор Просперо пробился вперед, подошел совсем близко, поднял жезл и громким голосом стал убеждать французов сдаться.
Баярд, со своей стороны, скорбя о злой участи своих собратьев, тоже понимал бесполезность дальнейшего сопротивления и видел, что и без того слишком много храбрецов пролило свою кровь и пожертвовало жизнью в этом бою; поэтому он также вышел вперед и крикнул своим, чтобы они сдавались в плен. Но побежденные уже не слышали его голоса и возгласов толпы; они окончательно потеряли человеческий облик и походили скорее на фурий или дьяволов, сорвавшихся с цепи. Наконец судьи покинули свои места, прошли сквозь кольцо зрителей и приказали трубачам и герольдам громко возвестить о победе итальянцев; те хотели уже удалиться с поля, но не тут-то было: их противники, обезумевшие от ярости, скорби и боли, ничего не понимали и не слышали и продолжали бороться с победителями, как борется тигр, сжатый кольцами удава.
Тогда вмешался Диего Гарсиа, видя, что другого выхода нет. Он обхватил сзади Сасэ де Жасэ, который дрался с Бранкалеоне и вырывал у него из рук секиру, в то время как итальянец готов был нанести ему смертоносный удар по голове. Благодаря своей необычайной силе Диего сумел скрутить французу руки и вытащить его из кучки дерущихся. Его примеру последовали многие зрители; они мгновенно высыпали на поле; и хоть иным досталось немало тумаков, а иные поплатились порванной одеждой, они все же после долгих усилий и стараний выволокли с поля этих полуискалеченных людей; те, правда, еще барахтались и бесновались с пеной у рта, но их наконец удалось подтащить к остальным пленным, сидевшим под дубами.
Когда Бранкалеоне нанес свой меткий удар, великодушное сердце Этторе все же испытало в первую минуту радостное волнение. Но это чувство тотчас же сменилось другим, возвышенным и благородным. Теперь он подошел к Граяно, отстранил столпившихся вокруг него людей и склонился над ним. Густая кровь медленно струилась из глубокой раны; Этторе очень осторожно приподнял ему голову, с такой заботливостью, как будто ухаживал за самым близким другом, к стал снимать с него шлем.
Но секира разрубила череп Граяно и на три пальца проникла вглубь: рыцарь был мертв.
У Этторе вырвался глубокий вздох; он снова опустил на землю голову убитого и, поднявшись, сказал, обращаясь к окружившим его товарищам и в особенности к Бранкалеоне:
— Твое оружие, — и он указал на обрызганную кровью секиру, которую держал Бранкалеоне, — совершило сегодня правое дело. Но как нам радоваться такой победе? Разве эта кровь, оросившая землю, не итальянская кровь? Разве этот рыцарь, могучий и отважный в бою, не мог пролить ее, прославив себя и нас в борьбе против общего врага? Тогда могила Граяно была бы окружена почетом и преклонением и память о нем жила бы как пример чести и доблести. Вместо этого он погиб с позором, и над прахом предателя родины будет вечно тяготеть проклятие.
После этих слов все сели на коней в молчании погруженные в глубокую задумчивость. Вечером труп Граяно перевезли в Барлетту, но народ, прослышав что его хотят похоронить на кладбище, воспротивился этому. Могильщики унесли его прочь из города и зарыли в двух милях от Барлетты, в ущелье, пробитом горным потоком.
С тех пор это место зовется Ущельем предателя. Синьор Просперо перед уходом с полк обратился к Баярду и спросил его, не хочет ля он выкупить своих рыцарей. Так за похвальбу Ламотта Баярду пришлось расплачиваться, он не ответил ни слова, и судьи постановили, что в таком случае пленники отправятся со своими победителями в Барлетту. И они поплелись пешком, молчаливые и ошеломленные, окруженные огромной толпой, а за ними следовали итальянцы верхом на конях под крики: «Да здравствует Италия! Да здравствует Колонна!»
Когда шествие вступило в крепость, всех ввели в зал, и тринадцать итальянских рыцарей представили двенадцать пленников Великому Капитану, ожидавшему их среди своих приближенных. Гонсало воздал хвалу победителям, а затем повернулся к французам и сказал им:
— Не подумайте, что я стану насмехаться над горькой участью, постигшей столь храбрых людей. Переменчив успех в ратном деле, и тот, кто нынче побежден, может завтра стать победителем. Не собираюсь я также говорить, что отныне вам следует уважать итальянскую доблесть: после всего, что произошло, такие слова уже излишни. Но скажу, что теперь вы, должно быть, научитесь уважать доблесть и отвагу, где бы эти качества вам ни встретились. Не забывайте, что Господь наделил ими людей во всем мире, а не даровал как особую привилегию одному вашему народу, и что истинного храбреца украшает скромность и порочит бахвальство.