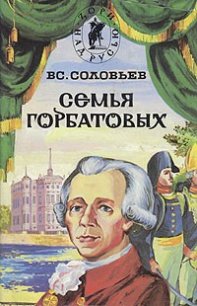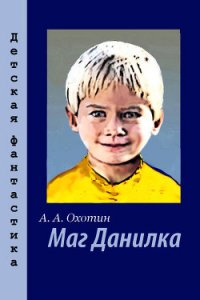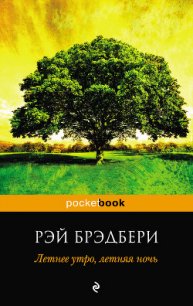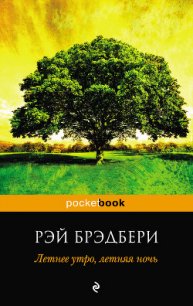Семья Горбатовых. Часть первая - Соловьев Всеволод Сергеевич (е книги .txt) 📗
Ему даже ясно представляется, как легко незаметным образом им выйти из замка, добраться до дому, в котором он помещался в Версале и оттуда, при помощи Моськи, уехать в Париж. Но он и минуты не думал об исполнении этого плана. Моська по дороге в Версаль говорил ему:
— Голубчик ты мой, Сергей Борисыч, ради Создателя, не лезь ты в этот омут! — Ну извести там кого следует о бунте, да и скорее обратно, чего нам в чужую беду мешаться — в чужом пиру похмелье, сам знаешь, горько…
Сергей почти соглашался тогда с Моськой, помышлял только о спасении Марии, об избавлении ее от опасности. Но теперь он далек от подобных мыслей, он здесь и не выйдет отсюда, пока не окончится эта томительная неизвестность, пока все не разъяснится. Это уже не чужой для него пир, его охватывает общая тревога, общее страдание.
В полумраке огромной, великолепной «зеркальной галереи», этого чуда роскоши и величия, бродит Сергей. Здесь, в этой самой галерее, среди нарядной блестящей толпы он в первый раз увидел свою герцогиню. Это было так недавно, а между тем ему кажется, что целая жизнь прошла с тех пор, как это было. Тогда она представлялась ему чудным, недосягаемым видением, теперь она — его собственность, его счастье, его мука…
И вот она перед ним, она сейчас же нашла его, какой-то инстинкт привел ее именно в эту галерею. Она оперлась на его руку, почти совсем склонила на его плечо усталую голову, и они медленно пошли вдоль пустынной галереи. Над ним во мраке терялись высокие своды потолка, поддерживаемые величеств венными кариатидами, расписанные прекрасными картинами. Бесчисленные зеркала отражали их бледные тени. Их легкий шаг гулко отдавался, пробуждая вечернюю тишину бесконечной галереи.
Мари была утомлена, измучена. На ее живом, подвижном, но теперь бледном и будто застывшем лице выражалось страдание. Губы были полуоткрыты, черные, горячие глаза испуганно и в то же время страстно глядели на Сергея. Она прижималась к нему своей трепещущей, глубоко дышавшей грудью, и счастье любви наполняло его. Но не о своем счастье говорили они в эти минуты — они передавали друг другу свои опасения, сомнения и надежды относительно того, чем разрешится этот ужасный день, что скажет завтрашнее утро.
Они вышли из «зеркальной галереи» и сами не заметили, как очутились в другой, в «галерее статуй». Здесь было еще мрачнее, еще таинственнее. Из каждой ниши глядели на них изваяния королей Франции, и при бледном мерцании двух-трех ламп Сергею казалось, что эти изваяния внезапно оживляются и глядят на них, и простирают к ним свои белые, мраморные руки, будто прося и требуя от них исполнения какого-то долга.
«Старые короли Франции требуют от нас охраны своего преемника!» — невольно подумалось Сергею, и он сам не заметил, как громко высказал эту мелькнувшую мысль свою.
— Да, это правда! — прошептала герцогиня. — Пойдем же скорее туда! Что там делается?! Нет ли новых известий?
Они поспешили к апартаментам королевы и смешались с толпою придворных и обитателей замка…
И вот между ними появилась королева. Только страшная бледность лица ее выказывала все волнение, которое она испытывала; но голос ее был спокоен. Она говорила с таким достоинством, с такой, по-видимому, самоуверенностью; она всех успокаивала, всех старалась ободрить своим примером.
И в то же время до ее слуха, как и до слуха всех присутствующих, доносился глухой, далекий рев толпы, окружавшей замок.
— Вот уже полночь, — говорила Мария-Антуанетта, — а еще в десять часов получено известие от маркиза Ла-Файета, что он спешит в Версаль во главе парижской национальной гвардии. Он просит нас упокоиться и на него положиться. Если он еще не в Версале, то будет здесь через несколько минут.
При этих словах королевы почти все невольно подавляют в себе вздох. Положиться на Ла-Файета — да, конечно, он умеет обращаться с толпою; но еще неизвестно, на чью сторону он станет — этот любимый герой Америки и Франции?! Ведь нет пределов его честолюбию, его жажде популярности. А разве на подобного человека можно положиться в такие минуты?..
— Маркиз Ла-Файет в Версале! Около двадцати тысяч национальной гвардии, которою он предводительствует, на площади d'Armes! — объявляет, появляясь у дверей, офицер королевской стражи.
— Ваше величество! — возглашает, быстро входя, другой офицер, — маркиз Ла-Файет в замке и просит позволения говорить с вашим величеством!
— Скажи маркизу, что мы ждем его, — спокойно отвечал король Людовик.
На пороге показывается всем известная фигура знаменитого генерала. Он весь в грязи, усталый, но энергичные черты лица его выражают бодрость духа, глаза сверкают.
Толпа расступается перед ним, и он твердой походкой приближается к королю. Но в это время кто-то из придворных невольно вскрикивает:
— Вот Кромвель!
Генерал останавливается, обертывается по направлению раздавшегося голоса.
— Милостивый государь, — произносит он, — Кромвель не вошел бы один и безоружный!
И он идет дальше.
На него обращены все взгляды, все замерли, боятся дохнуть: кто же он в самом деле — враг или избавитель?
Ла-Файет почтительно склоняется перед королем и королевой.
— Государь, — говорит он, и грусть и глубокое уважение к королю слышатся в его голосе, — государь, я принес вам мою голову, чтобы спасти голову вашего величества!..
Это громкая фраза, одна из тех фраз, к которым иногда любил прибегать блестящий герой борьбы за свободу. Но на этот раз он так искренне и горячо произносит эту фразу, что почти все чувствуют некоторое облегчение.
Король протягивает ему руку.
— Государь, — продолжает Ла-Файет, — я ручаюсь вам за чувства национальной гвардии.
— Я вам верю, маркиз, и благодарю вас! — произносит король.
На этот раз Ла-Файету верит и королева. Она забывает все сомнения, которые давно уже легли между нею и славолюбивым героем. Да что же ей и делать, как не верить?! Ведь эта вера — единственное, что ей осталось. Она верит не для себя, не за себя боится, о себе она забыла, она верит ради своего мужа, ради детей своих.
Ла-Файет предлагает, чтобы внутренние посты во дворце были заняты королевской стражей, а наружные были поручены национальной гвардии. Король соглашается на это.
— В таком случае, — говорит Ла-Файет, — я беру на себя наблюдение над тем, чтобы этот приказ вашего величества был в точности исполнен. Я обойду все посты и затем успокою Национальное Собрание… Успокойтесь и вы, ваше величество, — обращается он к королеве, — я головой ручаюсь вам, что порядок не будет нарушен. Завтра утром толпы разойдутся, спокойствие восстановится…
И, откланявшись королю и королеве, Ла-Файет спешит к выходу из замка…
Он говорил искренне, он успел всех успокоить; но это вряд ли бы удалось ему, если бы он рассказал откровенно, каким образом появился в Версале во главе двадцати тысяч национальной гвардии. Не он вел свое войско — оно вело его против воли. Когда он отказался идти в Версаль, солдаты кричали:
«Если маркиз Ла-Файет не хочет идти с нами — мы передадим начальство какому-нибудь старому гренадеру!» Другие, уже прямо к нему обращаясь, говорили:
— Генерал! Мы не считаем вас изменником, но мы думаем, что правительство нас обманывает… Мы пойдем в Версаль, чтобы выгнать королевскую стражу и Фландрский полк, которые отказываются носить национальную кокарду… Если для короля Франции слишком тяжела его корона, пусть он ее снимет — мы наденем ее на его сына, и все пойдет как нельзя лучше!..
Тщетно Ла-Файет употреблял всю силу своего красноречия, которое так часто помогало ему действовать на толпу. На этот раз толпа была сильнее его и увлекла его за собою.
И вот он обещал королю и королеве спокойствие, он поручился головою, что все приведет в порядок! Но в силах ли он будет это исполнить? Он надеется, он снова уверен в себе — а между тем чувствует, как страшно утомлен волнением и усталостью этого тяжелого дня. Его ноги едва слушаются, в голове туман… Уснуть бы! Один час крепкого сна снова оживил бы его!.. Но разве возможно теперь думать о сне?! Надо действовать…