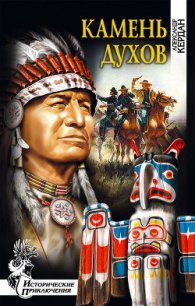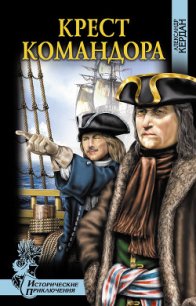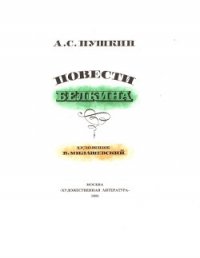Невольники чести - Кердан Александр Борисович (лучшие книги без регистрации txt) 📗
Кирилл, еще не пришедший в себя после беседы с губернатором, не сразу осознал смысл сказанного больной женщиной. Пригляделся. На самом деле, от былой Елизаветы Яковлевны почти ничего не осталось. Улыбка вымученная, в голосе – тоска, и только интонация – искренняя, неподдельная – говорила Кириллу, что перед ним – она, давняя его любовь.
Елизавета Яковлевна разгадала взгляд Хлебникова:
– Что – изменилась?.. Вот видите, я говорю вам правду…
Кошелева, несмотря на кажущееся спокойствие супруга, на ободряющие прогнозы лекаря, чувствовала, что дни ее сочтены. Может быть, счет идет даже не на них, а на часы. Как это ни странно, страха в ней не было… Если можно выразить одним словом то, что было сейчас в сердце генеральши, то это – покаяние. Хотя в чем и перед кем? Лиза сама в последние дни не раз задавала себе этот вопрос.
«Виновата ли я, что поддалась своему чувству и открыла сердце тому, кого давно люблю? – думала она. – А может быть, моя вина в другом, в том, что я не смогла связать свою судьбу с ним, а согрешила перед святым алтарем, поклявшись в верности другому? Поклялась и нарушила эту клятву… И болезнь моя не что иное, как расплата за сие преступление, за ошибку… Но разве любовь может быть ошибкой? Ведь как сказано в Святом писании: Бог – это любовь… Вот ведь Кирилла Тимофеевич, он любит меня беззаветно уже много лет и ничего не ждет взамен, ничего не просит, разве что – ответного чувства… Но коль не могу я дать ему таковое, счастлив одним тем, что сам способен любить… Разве же такая любовь – не Божья заповедь? Или граф Федор Иванович… К нему так же, как Хлебников ко мне, я потянулась всей душою… Ради него смогла пережить весь этот стыд, коий и не стыд вовсе, ежели любишь… Один лишь Павел Иванович, добрый и славный… Разве заслужил он такое? Да и сама я думала ли, что так поступлю с ним? Нет, нет и еще раз нет! Не помышляла кого-то обидеть! Только вот сердце… Оно часто не послушно ни чувству долга, ни доводам разума…»
Обо всем этом и хотела Кошелева поговорить с Кириллом, для того и позвала его. Но разговор вышел совсем не таким.
– Вы добрый человек, Кирилла Тимофеевич, – заметив сострадание на лице комиссионера, печально проговорила она. – Вы поймете и не осудите меня, ежели не осудили прежде… Я знаю сама: я кругом виновата… Перед Богом, перед Павлом Ивановичем, перед вами… Нет-нет, не перебивайте меня, пожалуйста, лучше простите в сердце своем…
Тут Кошелева закашлялась и поднесла к губам платок. Тяжело отдышавшись, спросила:
– Я ведь могу рассчитывать на ваше прощение, друг мой? – что-то похожее на кокетство, неуместное в такой обстановке, промелькнуло в ее тусклом голосе.
Но Хлебников не заметил этого. Его пронзила жалость к Елизавете Яковлевне, некогда такой грациозной и прекрасной, а теперь обреченной на смерть в этом глухом провинциальном углу… К состраданию примешивалась и досада на себя, отвернувшегося от Елизаветы Яковлевны после встречи в саду петропавловского коменданта. Тогда, когда кумир его вдруг рухнул, Кирилл обвинял ее в легкомыслии и неверности… «Да кто дал мне право судить этого ангела, если я и самому себе судья неважный?» – запоздало терзался он. Все это прорвалось теперь в бессвязном лепете:
– Да что вы, ваше превосходительство… Да как я смею… Да я…
– Я все знаю, Кирилла Тимофеевич, – рука Елизаветы Яковлевны ласково прикоснулась к руке комиссионера. Пальцы чуть подрагивали и были горячими и сухими. Это было первое соприкосновение их рук после той памятной истории с кашалотом, когда по воле случая генеральша оказалась в объятиях Хлебникова, бросившегося спасать ее.
– Да у вас жар!
– Ну и пусть… Это неважно сейчас! Хотя, впрочем, может быть, вы и правы… Как всегда, правы… – чувствовалось, что сил у Кошелевой остается все меньше. Она стала говорить отрывисто и торопливо, словно боясь не успеть: – Мне нужна ваша помощь, Кирилла Тимофеевич… Больше я никому не могу доверить этого…
– Я всегда к вашим услугам, ваше превосходительство.
– Да, да, благодарю вас… Вот, возьмите это… – она извлекла из-под подушки небольшой пакет, туго перевязанный алой лентой. – Это… это его письма ко мне… Вы понимаете, о ком я…
Кирилл молча кивнул. А Елизавета Яковлевна, точно извиняясь, объяснила:
– Не хочу, чтобы они… письма… если я… попали в чужие руки, особливо к Павлу Ивановичу… Он – человек святой и недостоин такой муки…
– Я понимаю…
– Сожгите их, я вас умоляю! – с неожиданной страстью произнесла она и тут же бессильно откинулась на подушку, как будто после этих слов что-то сгорело, испепелилось в ней самой.
Молчание затянулось и становилось угнетающим. Елизавета Яковлевна, собравшись с духом, прервала его:
– Ну, вот и все, мой добрый друг… Время прощаться… Ежели вам не противно после всего, что вы знаете обо мне, поцелуйте меня напоследок…
Кирилл нагнулся к умирающей и сделал то, о чем мечтал все эти годы, – прикоснулся губами к ее губам. Но это было не лобзание любовника, а поцелуй брата – кроме горечи утраты, ничего не отразилось в нем. Это почувствовали и комиссионер, и Елизавета Яковлевна.
– Храни вас Бог… – прошептала она и закрыла глаза. Комиссионер, спрятав в карман, где уже лежал подарок губернатора, пакет, полученный от его супруги, в последний раз посмотрел на Кошелеву, по челу которой бродили тени, словно зависла над ней большая черная птица, и тихо вышел из будуара.
В прихожей Хлебников нос к носу столкнулся с лекарем, пришедшим навестить больную, обменялся с ним парой ничего не значащих фраз и раскланялся, горько думая, что Елизавете Яковлевне сейчас нужен не медик, а духовник.
Старому камчадалу Уягалу приснился сон. Вернее, это было состояние, когда в сознании перемешиваются вымысел и реальность. Так уже бывало с Уягалом много-много больших солнц назад, когда его дед Ленат – шаман острожка, – воскурив ароматные травы, призывал духов умерших предков, чтобы узнать, будут ли удачными гон зверя и рыбная ловля. Кругом шла голова у маленького Уягала от пряного запаха, мельтешения торбасов деда на земляном полу яранги. Возникали перед глазами видения, приоткрывалось будущее.
То же самое чувствовал Уягал, и когда, повзрослев, сам стал ходить к Камаку, чтобы, оставив щедрые дары, помолиться богу Пихлачу – главному над всеми остальными богами. А еще нечто подобное испытал Уягал, когда, поддавшись уговорам белых людей, выпил их огненную воду… Веселый и добрый стал Уягал. Много смеялся и даже пел песню рода, хотя никогда этого при чужих не делал. А еще отдал тогда Уягал белым целый ворох беличьих шкурок, попросив взамен один стальной нож. Нож и сейчас у Уягала. Но огненной воды он больше не пьет…
Вот уже несколько зим живет старик отшельником в самых непролазных дебрях в маленькой юрте, которую построил из древесной коры, а сверху обмазал белой глиной, взятой здесь же, на берегу лесного ручья.
В юрте скрывается Уягал от своих сородичей, продавших души богам белых людей – желтому металлу, на который можно выменять у них все что захочешь: порох, бисер, одеяла, и этой самой злой огненной воде, которая умеет брать верх даже над мудрыми стариками и отважными охотниками.
Дед Уягала Ленат, получивший свое имя от названия налобной ленты, что должно было всем говорить о его большом уме, не сумел устоять перед этой водой. Пристрастился к ней, забыв о своем искусстве шамана, и наконец захлебнулся собственной слюной и отторгнутой пищей, выпив огненной воды больше, чем в силах человека. Отец Уягала Алайян, названный так за свою щедрость, стал шаманом после Лената, но тоже выпил огненный воды и сорвался с утеса…
Уягал, хоть он и сын своего отца и внук своего деда, совсем другой. Он видел много белых людей. Жил среди них. Водил их в тайгу – дорогу показывал. Законам леса учил. Сам учился мал-мал. Но богов своих чтил и помнил всегда. У них совета спрашивал, а не у Бога белых людей.
Когда в последний раз ходил Уягал вместе с белыми в тайгу, встретились им плохие люди. От одного из них, в которого вселился дух зла Ургу, Уягал прячется в тайге больше, чем от своих неверных заповедям предков соплеменников.