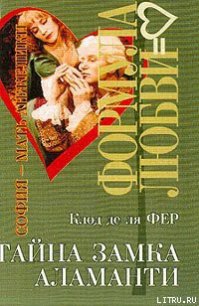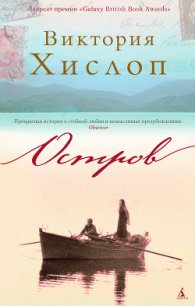Страсти по Софии - де ля Фер Клод (читать книги бесплатно полные версии TXT) 📗
Так я рассчитала заранее. Но теперь, услышав рассказ коновала о причине драки его с лекарем, я не испытывала желания наказывать именно Луиджо. Коновал оказался лекарем более искусным, чем мавр, он сразу понял сущность болезни ключницы и правильно назначил лечение. Держать такого умницу в темнице — глупость, которую мог бы себе позволить какой-нибудь французский барон, но никак не Аламанти. Было бы проще, если бы случилось наоборот: коновал бы предложил ключнице водолечение, а мавр — мужские ласки. Теперь, если я приму сторону мавра, то стану посмешищем в глазах дворни. Потому надо было принимать решение неожиданное…
— Ты склоняешь ее к греху прелюбодеяния, — заявила я для того, чтобы протянуть время и найти достойное решение. — Спасая тело ее, ты губишь ее душу.
— Ну и что? — пожал плечами Луиджо. — Живем в Италии, индульгенций у нашего попа — целый сундук. Погрешит — да покается. А коли мужик за ласку отблагодарит ее, то и доход в доме.
Коновал заметно осмелел. И смотрел уже не в глаза мне, а разглядывал всю, как должно смотреть всякому мужчине на всякую женщину. Я еще не чувствовала от него волны похоти, но уже предощущала ее, и сама захотела его объятий. В голове зашумело, ноги под столом стали ватными.
Тогда я опустила глаза к тарелке с мясом и, ковыряя вилкой в оленине, сказала голосом намеренно брезгливым и жестким:
— Ты почему так воняешь?
— Роды принимал, — тут же ответил Луиджо. — У кобылы. Как раз жеребенка вынул — меня и позвали.
Слова эти возбудили меня еще сильнее. Я представила, как мощные руки коновала лезут в тело кобылы и как та стонет не то от боли, не то от наслаждения, и меня аж передернуло от вида этой сцены.
— Пойди к прачкам, — велела я. — Набери горячей воды в большую бочку — они покажут в какую — добавь холодной, а потом вымойся там. Весь.
Большая бочка в прачечной была моею. Раньше я никому не разрешала мыться в ней.
— Потом вернешься сюда, — продолжила я. — Одежду свою оставь прачкам. Скажи, что я велела выстирать.
— Идти голым, синьора? — спросил он с насмешкой в голосе.
Тогда я оторвала взгляд от оленины и, посмотрев ему в глаза, сказала холодным от вежливости голосом:
— Возьмешь халат. Персидский. Он висит там же.
И, опустив глаза, закончила:
— Иди.
Когда Луиджо ушел, я доела мясо и допила вино, заела все солеными оливами и запила кипяченым молоком. Теперь я была сыта и могла себе позволить посмотреться в зеркало (нет, не в зеркало вечности, оно было надежно закрыто черным крепом, а в обычное, огромное, во всю высоту столовой и широкое настолько, что в нем могло поместиться рядом стоящих восемь Софий).
На меня смотрела совсем юная особа лет около девятнадцати-двадцати, красивая до умопомрачения и с глазами изголодавшейся по ласке самки. Если я буду омолаживаться с такой скоростью, то через пару месяцев лежать мне в люльке и пищать голосом тоненьким и пронзительным, а еще через пару недель и вовсе исчезнуть. Лесной царь предупредил меня, что после того, как плод дива покинет меня и окажется в чреве дриады из платана, организм мой примется быстро омолаживаться. Но при этом он сказал," как у всякой женщины после родов". Но изменения, происходящие сейчас, не шли ни в какое сравнение с теми, что случались со мной после каждых моих родов. Я словно налилась силой и живительными соками. Тело мое вытянулось, стало стройным, талия сузилась так, что корсет, который приходилось мне одевать последние годы, я забросила под кровать в Девичьей башне чуть ли не сразу после возвращения из Зазеркалья…
Постойте! Вот оно что! Зазеркалье! Вот откуда эти сильнейшие изменения в моем теле и в моей душе.
Действительно, надо помолодеть и стать, как все юные особы, беспечной, чтобы забыть о столь недавнем приключении и думать лишь о мускулистом теле коновала, который может прижать меня к постели и, вогнав в меня свой кол, прекратить омоложение, остановить его в том возрасте, в каком я оказалась в тот момент. И тогда я стану вновь стареть…
Нет! Я буду матереть. Из девятнадцатилетней дурехи я буду медленно, день за днем превращаться в молодую женщину, принимать ухаживания мужчин, любить их и дарить им свою любовь без оглядки, перепархивая с фаллоса на фаллос, как мотылек с цветка на цветок, живя мгновениями радости, сегодняшнего счастья, не задумываясь о дне завтрашнем, чувствуя бесконечность сил своих и представляя, что счастье быть молодой и здоровой вечно. А потом тело раздастся, таз расширится, грудь опадет, кожа не потеряет еще своей шелковистости, но уже потребует внимания к себе в виде кремов и помад, глаза станут видеть вблизи хуже, чем вдали…
Бр-р-р! Меня аж передернуло от воспоминаний. И при звуке этом и передергивании плечами грудь моя — уменьшившаяся, но все же значительно большая, чем мне бы сейчас ее хотелось иметь, заколыхалась, отчего сосочки тронули пару раз материю платья — и тело обдало волной женского желания.
— Ну, когда ты! — простонала я. — Когда ты помоешься, наконец, чертов коновал!
Сейчас я хотела его так, что приняла бы в себя и грязного, вонючего, каким он был, когда я ел а, а он таращился на меня через весь стол. Пусть я его потом и убью, как казнила, говорят, царица Египта Клеопатра, своих возлюбленных, ибо быть живу человеку, знающему хоть одну тайну Аламанти, нельзя, но это будет завтра, будет утром, а сегодня, всю ночь до утра он будет мой и только мой.
При мысли этой я застонала второй раз, да так громко, что запершило в горле, и я закашлялась. Хорошо, что не было на этот раз со мной очередной Лючии, а прочим слугам вне обеденного времени было запрещено сюда входить и тревожить меня, находящуюся якобы в раздумье после вкушения пищи. Им бы этот мой стон подсказал мысль, что настоящая София оказалась опять подмененной своей сестрицей, а потому могли они и прибить меня в праведном гневе в целях защиты меня же от меня самой.
— Ты — дура! — сказала я сама себе, глядя на себя. — Молодая и глупая дура! Тебе просто повезло. Потому что дуракам всегда везет. А была бы ты поумней, то поняла, что Лесной царь прав: тебе действительно надо поскорее покинуть то место, где тебя все знают, и начать новую жизнь в новом месте. Если кто-то из этих дурней поглядит на тебя внимательно и увидит, как ты расцвела и похорошела, тебя убьют, как ведьму, и потому, что испугаются, и потому, что позавидуют. Ибо самый страшный и самый беспощадный из смертных грехов — это грех зависти. Из зависти люди совершают самые бесчестные и самые страшные проступки в своей жизни, из зависти люди загружают свою душу чередой прочих смертных грехов, совершая прелюбодеяния, убийства, возносясь гордыней над прочими, чтобы однажды не суметь воспарить к ангелам, а рухнуть каменным комом в Геену огненную — и там, раскалившись до красна, взорваться, разлетевшись на мириады мелких осколков, похожих на пыль, исчезнуть, будто тебя никогда и не было.
Мне показалось, что отражение мое в зеркале улыбнулось в ответ и сказало:
— Ты стала поэтом, София.
Я отшатнулась от наваждения, повернулась к зеркалу спиной. Конечно, это — обыкновенное зеркало, не зеркало вечности. Нет опасности, что отражение опять захочет обмануть меня и занять мое место. Но все-таки спокойней не видеть себя ни в одном из зеркал этого замка. Как знать, быть может, я так быстро молодею не потому, что тело обновляется после не случившихся родов, а оттого, что зеркала замка Аламанти, связанные в Зазеркалье между собой (это я знала по собственному опыту), воздействуют на мое тело именно таким образом. А может, это мое отражение там колдует надо мной? Вспомнила алхимическую лабораторию с чародейскими книгами в Зазеркалье — и почувствовала страх перед собственным отражением.
Найдя нужный шнур, я дернула за него — и портьера, поднятая над зеркалом, рухнула вниз. Так мне спокойнее.
А вообще-то надо занять себя чем-нибудь на то время, пока Луиджо моется. Например, вспомнить, как впервые в этой вот столовой я ощутила… Нет, не я… Он понял это…