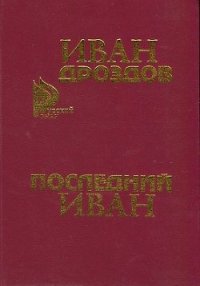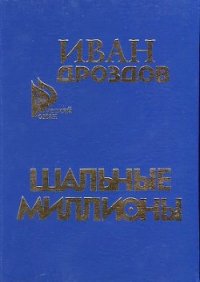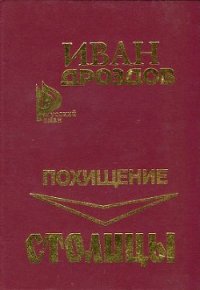Филимон и Антихрист - Дроздов Иван Владимирович (читать книги без txt) 📗
«Как? — останавливался Василий. — Разве такие люди… большие, сильные… Разве они… Нет! Нет! Буранов — величина, он всесилен. Он жалует ордена, докторские дипломы, должности. И вдруг — немощный, больной, жалкий в своём одиночестве старик! Дунь на него — и полетит как пушинка. Нет силы, опоры — нет ничего». И Василий и себя вдруг ощутил ничтожным, ничем не прикрытым. Прихлопнут институт — теперь уж как пить дать! И… пошёл он, солнцем палимый. Куда свой путь направит, к кому приткнётся? Кандидат. Человек, только возмечтавший что-то сделать в науке. Пнут ногой, и — покатился. В Москве нет квартиры. Трое детей, рыхлая больная жена. Снова на Урал — к мартеновской печи?
Тропинка вела Василия в сторону гаража, он скоро увидел за калиткой на лесной поляне автомобиль и свет в кабине. Там парочка стелилась на ночлег. Доносился негромкий разговор.
— Зяблик предлагал нам диван на веранде, ты зря отказался, — корила мужа женщина.
— Нам и здесь будет хорошо.
— Я постирала кучу салфеток, полотенец, — все ногти обломала, а ты не был представлен академию.
— Пустая формальность! Не он будет решать нашу судьбу, всему тут голова — Зяблик.
«Вот они зачем тут, — подумал Галкин, ускоряя ход по направлению к дому. — И Три Сергея! Затем же!»
В доме все двери и окна были освещены, к ним, точно девушки в светлых сарафанах, прильнули берёзки. Под стрехой, устраиваясь на ночлег, зашуршала крыльями славка, и тотчас в тёмной шубе дикого виноградника, обвивавшего балкон, завозились воробьи. Из правой веранды высыпала стайка молодых людей. Галкин отскочил в кусты крыжовника, исколол ноги, прошёл к углу дома. Тут в ярко освещённой угловой комнате увидел сидящего за письменным столом Зяблика. На полу, на лосиной шкуре полулежала в вальяжной позе Наташа, внучка академика, — это она принесла им кастрюлю с котлетами. Дальше, за шкурой, алел кроваво-красным орнаментом набивной ковёр — тот самый, неподъёмный. «Его ковёр и шкура, — Зяблика, — обожгла мысль! — Да, да… не для академика старались, а ему, для него… Обманул нас, мерзавец!»
Василий отшатнулся от окна. Обида сдавила грудь. Двинулся напрямую по саду к времянке. Прокрался к своей кровати, улёгся без шума, но заснуть не мог. Принимался считать до ста, но сон не приходил. И лишь на рассвете Василий забылся.
Возле бани, на залитой солнцем зелёной лужайке, тесным кружком сидели все наши работнички и Три Сергея. Центром кружка был Филимонов. Он набирал полную грудь воздуха, произносил с грозным видом слова, похожие на заклинание: «А-ба-ши Ки-ркли…» Всплёскивал руками и заливался детским, совершенно упоительным смехом. Обрывал он смех так же внезапно, как и начинал; выпрямлялся весь, будто заглатывал аршин, пучил младенческие незабудковые глаза, произносил пугающе-страшно: «А-ба-ши Ки-ркли!» — и, взмахивая руками, как петух крыльями, вновь заливался смехом. Завидев Василия, вскинул руки:
— Слышь, Василий, — Мама Бэб, ну та, что все бумаги наши заедает, — не Мама Бэб, — А-ба-ши Ки-ркли! Слышишь — Ки-ркли! Это у неё фамилия — Кирклисова, Институтские остряки сократили — Киркли. А мы и не знали. Мама Бэб, Мама Бэб… А у неё есть фамилия — Кирклисова. Вот они говорят, — кивнул на Трёх Сергеев. — И ещё говорят: в русском языке ошибок кучу делает, а наши бумаги редактирует. Редактор, цензор — каково? Бумаги наши на нюх берёт: милый, постылый. Слышь, на нюх… Бумаги-то…
И снова взрыв смеха. Вулканический, до слёз и головокружения.
Сергеев и Сергиенко сидели рядом с Филимоновым, Сергеев держал в руках блокнот, и, как только Филимонов заканчивал какой-нибудь рассказ или справлялся с очередным приступом смеха, подносил ему раскрытую страницу с шариковой ручкой, просил «взглянуть» на какую-то формулу. И Филимонов брал блокнот, бегло просматривал записи и делал пометки. Обыкновенно говорил Сергееву: «Не туда поехал! Тут следует другая зависимость. Вот — смотрите!» И писал формулы. Иной раз исписывал страницу, две… Писал быстро. А закончив, подавал блокнот хозяину и вновь обращался к беседе.
По мере того, как Сергеев эксплуатировал его таким образом, Вадим Краев, бдительнее других наблюдавший за шефом, терял равновесие, ёрзал на пеньке, где он пристроился несколько в стороне от кружка, и всё громче подавал реплики: «Дали бы отдохнуть человеку!» Или: «Ну что вы пристали с этими формулами!» Ворчал он глухо, невнятно, — его, пожалуй, никто и не слышал, но важный и серьёзный Шушуня, сидевший к нему ближе других, нервно поводил бычьей шеей, метал чёрные искры из своих карих женственно красивых очей. Он вообще недолюбливал Вадима, особенно в минуты, когда тот бесцеремонно совал нос в дела Филимонова.
Знай Шушуня все подробные обстоятельства жизни лаборатории, все тонкости отношений, особенно же всю механику роста Трёх Сергеев, он бы, может быть, не так строго судил Вадима. Ещё недавно Три Сергея не имели никаких званий, их никто не замечал в институте, и они, зная безотказность Филимонова, консультировались у него по математике. Но вот они защитили диссертации — возгордились, занеслись, при встрече едва отвечают на приветствие, однако и теперь приходят к Филимонову со своими бесконечными вопросами. Поговаривают даже, что в статьях, что печатают они в журналах, пестрят выкладки и расчёты Филимонова, что не открой Филимонов какие-то математические зависимости — не быть бы им докторами. «Ладно, пользуйтесь, — рассуждал Вадим Краев, неотлучно состоявший при Филимонове, — но зачем же нос задирать? Зачем показывать превосходство, если его, этого превосходства, в сравнении с Филимоновым, у вас нет?»
Впрочем, ни напористость Сергеева со своим блокнотом, ни реплики Вадима, становившиеся всё более громкими, — ничто не нарушало изначально весёлого тона беседы. Филимонов, предаваясь ребячески-озорному настроению, казалось, не думал о впечатлении, которое он производит на своих товарищей. Очень ему понравилось царственно-восточное имя невзрачной прыщеватой старушки, игравшей во всех институтских делах не всем понятную, но мистически важную роль. При встречах с ней одни шарахались в сторону, другие сгибались в льстивом поклоне и приветствовали возможно более ласковым голосом.
— Вася, слышь-ка, — в институте аттестация, — встретил Галкина Филимонов. — Вот он, товарищ Сергеев, будет нас с тобой аттестовыватъ.
Филимонов чертил формулы, глаз от них не отрывал и говорил громко, эхо летело в лес и отдавалось там, в тёмных еловых дебрях: атте-а-а-ция!
Васю эта весть как палкой по голове ударила; Сергеев его не любил, он знал это, — и, конечно, Галкин вылетит из института пробкой. И Филимонов полетит, Шушуня — по возрасту.
— Не успеют! — нарочито бодро возгласил Галкин. И соврал для устрашения: — У меня дружок в Госплане, так он говорит, список видал… назначенных к закрытию институтов. Наш там среди первых значится. — И чтобы заполнить наступившую паузу, пропел фальшивым тоном:
Переменим с тобой, эх, да жизнь городскую На роскошную жизнь… эх, да деревенскую.
Филимонов, подавая блокнот Сергееву и будто не слыша бодряческой припевки:
— А, Вася! Аттестация!.. На Москве теперь ба-а-льшие перемены! Нас, бездельников, шугануть решили. Их, говорят, научных работников, в одной столице миллион расплодилось. Это, если с жёнами да детишками, — миллиона три будет, а то и четыре. Государство целое. Финляндия! Вон газету принесли, про наш институт фельетон тиснули: «Гора родила мышь». Семьсот гавриков за год выдали три небольших изобретения. А слесарь на уральском заводе был, так он один за год четыре изобретения выдавал. А?.. Каково? Один за наш институт сработал. Интересно, сколько он получил за свои четыре изобретения? Пожалуй, меньше, чем Зяблик в месяц получает. А что как нас — на его место, а его — сюда, в институт. И начальства не надо, и машин, и дач, и гигантского здания. А, Вась? Могут ведь и так дело повернуть.
«Чего дыбится? — мысленно раздражался Галкин. Десять лет морочил людям голову со своим импульсатором. Теперь и нам из-за него по шапке дадут».