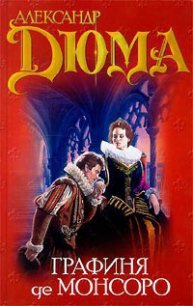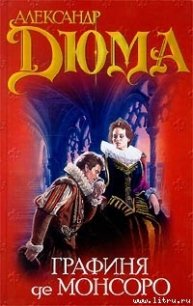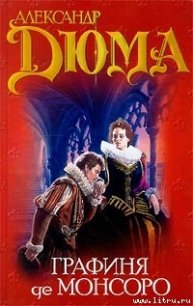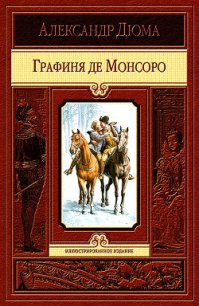Графиня де Монсоро. Том 2 - Дюма Александр (чтение книг TXT) 📗
– А, – сказал Генрих, – так он трепещет, мятежник! И улыбнулся в усы.
– Разрази господь! – восхитился Шико, поглаживая подбородок. – Вот ловкий человек! И, толкнув короля локтем, сказал:
– Посторонись-ка, Генрих, я хочу пожать руку господина де Сен-Люка.
Пример. Шико увлек короля. После того как шут поздоровался с приехавшим, Генрих неторопливым шагом подошел к своему бывшему другу и положил ему руку на плечо.
– Добро пожаловать, Сен-Люк, – сказал он.
– Ах, государь, – воскликнул Сен-Люк, целуя королю руку, – наконец-то я снова нахожу своего любимого господина!
– Да, но я тебя не нахожу, – сказал король, – или, во всяком случае, нахожу таким исхудавшим, мой бедный Сен-Люк, что не узнал бы тебя, пройди ты мимо.
При этих словах раздался женский голос.
– Государь, – произнес он, – не понравиться вашему величеству – это такое несчастье.
Хотя голос был нежным и почтительным, Генрих вздрогнул. Этот голос был ему так же неприятен, как Августу звук грома.
– Госпожа де Сен-Люк! – прошептал он. – А! Правда, я и забыл…
Жанна бросилась на колени.
– Встаньте, сударыня, – сказал король, – я люблю все, что носит имя Сен-Люка.
Жанна схватила руку короля и поднесла к губам. Генрих с живостью отнял ее.
– Смелей, – сказал Шико молодой женщине, – смелей, обратите короля в свою веру, вы для этого достаточно хороши собой, клянусь святым чревом!
Но Генрих повернулся к Жанне спиной, обнял Сен-Люка за плечи и пошел с ним в свои покои.
– Ну что, – спросил он, – мир заключен, Сен-Люк?
– Скажите лучше, государь, – ответил придворный, – что помилование даровано.
– Сударыня, – сказал Шико застывшей в нерешительности Жанне, – хорошая жена не должна покидать мужа.., особенно когда ее муж в опасности.
И он подтолкнул Жанну вслед королю и Сен-Люку.
Глава 33.
ГДЕ РЕЧЬ ИДЕТ О ДВУХ ВАЖНЫХ ГЕРОЯХ ЭТОЙ ИСТОРИИ, КОТОРЫХ ЧИТАТЕЛЬ С НЕКОТОРЫХ ПОР ПОТЕРЯЛ ИЗ ВИДУ
В нашей истории есть один герой, вернее даже два героя, о чьих деяниях и подвигах читатель вправе потребовать у нас отчета.
Со смирением автора старинного предисловия мы спешим предупредить эти вопросы, вся важность которых нам совершенно очевидна.
Речь идет прежде всего о дюжем монахе с лохматыми бровями, толстыми, красными губами, большими руками, широкими плечами и шеей, становящейся все короче по мере того, как увеличиваются в размерах его грудь и щеки.
Речь идет затем об очень крупном осле с приятно округлыми и раздувшимися боками.
Монах с каждым днем все больше напоминает бочонок, подпертый двумя бревнами.
Осел смахивает уже на детскую колыбельку, поставленную на четыре веретена.
Первый живет в одной из келий монастыря святой Женевьевы, где всевышний осыпает его своими милостями.
Второй обитает в конюшнях того же монастыря, где перед ним стоит всегда полная кормушка. Первый отзывается на имя Горанфло. Второй должен бы отзываться на имя Панург. Оба наслаждаются, во всяком случае в настоящую минуту, самым большим благоденствием, о котором только может мечтать любой осел и любой монах.
Монахи монастыря святой Женевьевы окружают своего знаменитого собрата заботами, и, подобно тому как третьестепенные божества ухаживали за орлом Юпитера, павлином Юноны и голубками Венеры, святые братья раскармливают Панурга в честь его господина.
В кухне аббатства не угасает очаг, вино из самых прославленных виноградников Бургундии льется в самые большие бокалы.
Возвращается ли миссионер из дальних краев, где он распространял веру Христову, прибывает ли тайный легат папы с индульгенциями от его святейшества, им обязательно показывают Горанфло – этот двуединый образ церкви проповедующей и церкви воинствующей, этого монаха, который владеет словом, как святой Лука, и шпагой, как святой Павел. Им показывают Горанфло во всем его блеске, то есть во время пиршества: в столешнице одного из столов сделали выемку для его священного чрева, и все преисполняются благородной гордости, показывая святому путешественнику, как Горанфло один заглатывает порцию, которой хватило бы восьми самым ненасытным едокам монастыря.
И когда вновь прибывший вдоволь насладится благоговейным созерцанием этого чуда, приор складывает молитвенно руки, воздевает глаза к небу и говорит:
– Какая замечательная натура! Брат Горанфло не только любит хороший стол, но он еще и весьма одаренный человек. Вы видите, как он вкушает пищу?! Ах, если бы вы слышали проповедь, которую он произнес однажды ночью, проповедь, в которой он предложил себя в жертву ради торжества святой веры! Эти уста глаголят, как уста святого Иоанна Златоуста, и поглощают, как уста Гаргантюа.
Тем не менее иной раз, посреди всего этого великолепия, на чело Горанфло набегает облачко: куры и индейки из Мана тщетно благоухают перед его широкими ноздрями, маленькие фландрские устрицы, тысячу которых он заглатывает играючи, томятся в своих перламутровых раковинах, бутылки самых разнообразных форм остаются полными, несмотря на то что пробки из них уже вынуты. Горанфло мрачен, Горанфло не хочет есть, Горанфло мечтает.
Тогда по трапезной проносится шепот, что достойный монах впал в экстаз, как святой Франциск, или лишился чувств, как святая Тереза, и общее восхищение удваивается.
Это уже не монах, это – святой, это уже даже не святой, это – полубог. Иные доходят до утверждения, что это сам бог во плоти.
– Тс-с! – шепчут вокруг. – Не будем нарушать видений брата Горанфло.
И все почтительно расходятся.
Один приор остается ждать той минуты, когда брат Горанфло подаст какие-либо признаки жизни. Тогда он приближается к монаху, ласково берет его за руку и уважительно заговаривает с ним. Горанфло поднимает голову а смотрит на приора бессмысленным взором.
Он возвратился из иного мира.
– Чем вы были заняты, достойный брат мой? – спрашивает приор.
– Я? – говорит Горанфло.
– Да, вы. Вы были чем-то заняты.
– Да, отец мой, я сочинял проповедь, – Вроде той, с которой вы так отважно выступили в ночь святой Лиги?
Каждый раз, когда ему говорят об этой проповеди, Горанфло оплакивает свою немощь.
– Да, – отвечает он, вздыхая, – в том же роде. Ах, какое несчастье, что я не записал ее.
– Разве человек, подобный вам, дорогой брат мой, нуждается в том, чтобы записывать? Нет, он глаголет по вдохновению свыше. Он разверзает уста, и, поелику слово божие заключено в нем, уста его изрекают слово божие.
– Вы так думаете? – спрашивает Горанфло.
– Блажен тот, кто сомневается, – отвечает приор. Время от времени Горанфло, понимающий, что положение обязывает, и к тому же понуждаемый примером своих предшественников, и в самом деле начинает обдумывать проповедь.
Что там Марк Тулий Цезарь, святой Григорий, святой Августин, святой Иероним и Тертуллиан! С Горанфло начнется возрождение духовного красноречия. Reruin novus ordo nascitur 17.
И также время от времени, по окончании своей трапезы или посредине своего экстаза, Горанфло встает и, словно подталкиваемый невидимой рукой, идет прямо в конюшни. Придя туда, он с любовью взирает на ревущего от удовольствия Панурга, затем проводит своей тяжелой пятерней по густой шерсти, в которой его толстые пальцы скрываются целиком. Теперь это уже больше чем удовольствие, это – счастье: Панург уже не ограничивается ревом, он катается по земле.
Приор и три-четыре высших монастырских чина обычно сопровождают Горанфло в его прогулках и пристают к Панургу с разной ерундой: один предлагает ему пирожные, другой – бисквиты, третий – макароны, как в былые времена те, кто хотел завоевать расположение Плутона, предлагали медовые пряники Церберу.
Панург предоставляет им свободу действий – у него покладистый характер. Он, у которого не бывает экстазов, кому не надо придумывать проповеди, не надо заботиться о сохранении за собой иной репутации, чем репутация упрямца, лентяя и сластолюбца, считает, что ему больше нечего желать и что он самый счастливый из всех ослов.
17.
Рождается новый порядок вещей (лат.).