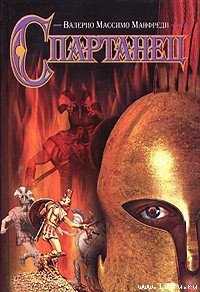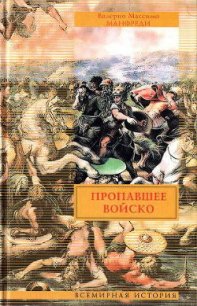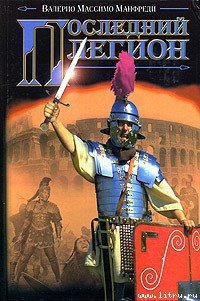Этторе Фьерамоска, или турнир в Барлетте - д'Азельо Массимо (библиотека книг .txt) 📗
Джиневра после всех перенесенных мучений оставалась в глубоком забытьи, говорившем о полном изнеможении; она не была без чувств, но и не приходила в сознание; она не сопротивлялась, когда ее укладывали в постель, и не замечала, когда дотрагивались до ее руки или головы. Глаза ее были открыты, но взгляд потух, и она озиралась, ничего не видя. Виттория понимала, что такое состояние было тем опаснее, чем спокойнее казалась больная; времени терять было нельзя. Она отпустила мужчин, но велела позвать служанок и принести различные укрепляющие средства; вскоре им удалось вернуть Джиневру к жизни, с которой, казалось, она уже расставалась.
Едва она пришла в себя, как с ужасом огляделась вокруг и сделала отчаянную попытку вскочить с кровати и бежать прочь; но она была так слаба, что упала бы, если б Виттория не подхватила ее и насильно, хотя и ласково, не заставила снова лечь.
— Боже мой! — сказала Джиневра. — Неужели вы в сговоре с ним? Ведь вы благородная женщина, вы молоды, прекрасны. Неужели вы не сжалитесь надо мной?
— Не бойтесь, — ответила Виттория, взяв ее руки и прикоснувшись к ним губами. — Все мы здесь, в крепости, готовы услужить вам, помочь и защитить вас; успокойтесь Бога ради, вам здесь некого бояться.
— Если это правда, — возразила Джиневра, снова спуская ноги с кровати, — пустите меня, пустите, дайте мне уйти.
Виттория подумала, что это стремление бежать прочь порождено расстроенным рассудком, и, видя, что женщина так слаба и измучена, принялась ласково уговаривать ее подождать хоть немного, но ужас перед местом, где она находилась, довел Джиневру до исступления, которое только усиливалось от возникавших препятствий; она все порывалась встать и со слезами говорила:
— Мадонна! Ради Бога и Пресвятой Девы, я умоляю вас об одном — дайте мне уйти с этой кровати; бросьте меня в море, в огонь, но только пустите прочь отсюда, с этой кровати. Я не причиню вам хлопот… Глоток воды… У меня все горит внутри… и позвольте мне сказать несколько слов фра Мариано, из церкви святого Доминико… Только прочь отсюда… Пустите меня…
И с этими словами она вскочила с постели. Виттория, видя ее непреклонность, не стала препятствовать ей. С большим трудом Виттория вместе со служанками снесла ее на руках вверх по лестнице в отдаленную комнатку, где Гонсало велел приготовить ей ложе. Когда Джиневру раздели и уложили, она вздохнула и сказала:
— Синьора, Бог видит все; он видит, что я всем сердцем молю его отплатить вам за добро, которое вы мне сделали. Пресвятая Дева, благодарю тебя! А вы, синьора… Спасибо вам за то, что я по крайней мере умру не в таком отчаянии… Прошу вас об одном — скорее позовите фра Мариано… Где я?.. Скажите мне, который час? День сейчас или вечер?
— Час ночи, — ответила Виттория. — За фра Мариано пошлют. Вы пережили слишком много тяжелого, и вас мучит напрасный страх; успокойтесь, милая, отдохните, здесь вы в безопасности; я вас не оставлю.
— Да, да, не оставляйте меня! Если бы вы знали, как отрадно становится сердцу, когда ваши ласковые глаза смотрят на меня. Присядьте здесь, на мою постель; вот я немножко подвинусь к стенке… Нет; нет, не думайте, что мне это трудно… Мне с вами лучше…
Несколько мгновений она лежала в оцепенении, потом внезапно заговорила, как в бреду, содрогаясь от ужаса:
— Если б вы знали, как это страшно! Быть заживо погребенной!.. Задыхаться под горой трупов… Смотреть в хохочущие лица разлагающихся мертвецов… Боже! Боже мой! Мне кажется, я все еще там.
Она прижалась к своей покровительнице. Та ничего не возразила на эти бредовые речи, так как понимала, что спорить бесполезно, а только обняла ее и ласково стала успокаивать.
— О, синьора, — продолжала Джиневра, пряча лицо на груди Виттории, — я сама не знаю, что говорю… Но я пережила такие мучения! И право, я не заслужила их… Что я ему сделала, за что он так поступил со мной? Пресвятая Дева обещала мне спасение… Я молилась ей всем сердцем… А она покинула меня… Правда, я грешница… но не преступная… а только несчастная… О, такая несчастная! Ведь я-то знаю, что творится в моем сердце… Никто, кроме меня самой, не поймет, сколько я выстрадала.
— Верю, дорогая, верю, — ответила Виттория, — только успокойтесь и не говорите, что Пресвятая Дева покинула вас. Разве не она послала меня осушить ваши слезы и облегчить ваши страдания? Видите, я здесь, с вами; я вас не оставлю. Если я нужна вам — не бойтесь, я никуда не уйду. А если вам потребуется еще чья-нибудь поддержка, если надо наказать вашего обидчика, загладить причиненное вам зло, скажите… доверьтесь мне. Мой отец, Фабрицио Колонна… Гонсало… все охотно придут вам на помощь.
— Ах, синьора! — прервала ее Джиневра. — Никто на свете не может дать мне хотя бы минуту счастья и уменьшить мои муки. Для меня уже все кончено в этом мире. Благодарю, благодарю вас, вы принесли мне последнее утешение… И не считайте меня неблагодарной, если я не делюсь с вами моими горестями, — это невозможно, об этом не расскажешь, — и если я не принимаю ваших предложений… Господь вам воздаст за все… он-то ведь может… а я могу только благодарить вас и целовать ваши благословенные руки… они поддержат мою голову в смертный час и закроют мне глаза… Обещайте, что отойдете от меня только тогда, когда я совсем похолодею.
Виттория хотела рассеять эти мрачные мысли и попыталась уверить Джиневру, что жизнь ее вне опасности, но та не дала ей договорить:
— Нет, нет, дорогая синьора, все это напрасно, я знаю, что со мной, я чувствую… Только не откажите мне в этой милости, ангел-хранитель мой, — правда ведь, вы не откажете мне? Вот видите, как я дорожу вашей лаской… Вы не можете назвать меня гордой или неблагодарной. Вы обещаете?
— Да, да, дорогая, обещаю, если такое случится…
— О, вот я уже спокойнее. Теперь позовите только фра Мариано, и больше мне ничего не нужно на этом свете… Дайте мне еще глоток воды, у меня в сердце словно горящие угли… и если можно, отодвиньте свечку, она слепит мне глаза. Простите меня за эти хлопоты, все это скоро кончится.
Виттория исполнила все просьбы Джиневры и опять присела на край ее постели. В это время на пороге появился Иниго, ходивший за фра Мариано, и спросил, можно ли монаху войти.
— Пусть, пусть войдет, — сказала Джиневра. В дверях показался высокий монах; капюшон наполовину закрывал его бледное смиренное лицо. Он подошел к постели со словами:
— Да хранит вас Господь, синьора.
Все вышли из комнаты, и Джиневра осталась наедине с монахом.
Весь облик фра Мариано был, казалось, проникнут его горячей любовью к ближнему, сознанием священного долга, возложенного на него небом, — поддерживать человека в несчастье; с первого взгляда можно было понять, что он давно уже презрел все мирские треволнения и страсти. История его жизни оставалась тайной для жителей Барлетты и даже для братии монастыря святого Доминика, где он жил, пользуясь всеобщим уважением за свои добродетели и ученость, несмотря на то, что никакой должности в монастыре не занимал. Поговаривали, что он стал жертвой религиозных преследований. Ходили слухи, что в миру он был одним из первых граждан Флоренции и принадлежал к так называемой секте пьяньони, которую возглавлял фра Джироламо Савонарола; говорили, что, увлеченный речами грозного проповедника, он покинул мирскую жизнь и принял из рук Савонаролы одежду монаха-доминиканца в монастыре святого Марка. Кроме этих толков, видимо достоверных, говорили и другое: будто фра Мариано, посвятив себя служению Богу, порвал дорогие его сердцу узы, будто это внезапное решение наделало много шуму и вызвало гнев и ненависть покинутой девушки, а он, якобы по ее наущению, подвергся гонениям со стороны папской курии, как ученик Савонаролы, и, когда последний был казнен, еле спасся сам благодаря своим духовным наставникам, которые помогли ему переодеться в чужое платье и бежать.
Говорили также, что в барлеттском монастыре он скрывается под чужим именем и находится в полной безопасности, ибо этот отдаленный монастырь почти никто не посещает. Такая молва ходила о фра Мариано. Но даже самые изощренные недоброжелатели не могли бы при всем желании запятнать его доброе имя. Семена сурового учения Савонаролы упали в его душе на благодарную почву, и природная готовность жертвовать всем ради истины помогла им принести свои плоды — человеколюбие и пламенное усердие в своем деле.