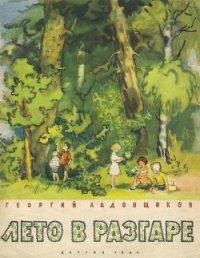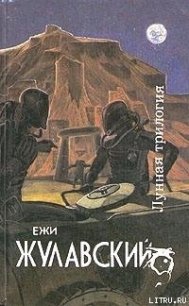Георгий Победоносец - Малинин Сергей (книги серии онлайн .TXT) 📗
Ныне же, не имея прямого, из-под палки, государева понуждения к праведному житию, народ грешил кто во что горазд. В толпе кривлялись и прыгали, являя горожанам свои «бесовские кудесы», скоморохи, медвежатники водили косолапых, и те, вставая на дыбы и мотая косматыми башками, пугали и потешали народ. И над всей этой кутерьмой и гамом, над пёстрой мешаниной красок и запахов, над суетной людской толчеёй высились белокаменные стены Кремля и блистающие сусальным золотом купола соборов.
Степан пробирался через густую толпу, бережно придерживая у пояса худой кошель: худой не худой, а оглянуться не успеешь, как срежут. Лихих людей на Москве немало, и по первости, пока не обвык, Степан от них зело натерпелся. Обидно, слышь-ка, когда неделю спину на работе гнёшь, надрываешься, а какой-то ловкач после твои денежки в кабаке пропивает!
Из толпы его вдруг окликнули, и, удивлённо оглянувшись (знакомых у него в Москве, кроме мужиков из артели, не было, не успел обзавестись за работой), Степан заметил машущего ему рукой Афоню, по прозванию Кудря, односельчанина, что жил через три дома от него. Раздвигая плечом толпу и беззлобно отругиваясь от тех, кто был недоволен полученными толчками, Степан поспешил ему навстречу. В родных местах он теперь бывал редко: завладев имением Зиминых, боярин Долгопятый положил артельщикам такой оброк, что хоть ты круглые сутки топор из рук не выпускай. Вот и приходилось мужикам месяцами пропадать на Москве. Степану это было отчасти на руку. Узнал Иван Долгопятый своего давнего обидчика или не узнал, было непонятно, но попытку помешать ему выстрелить в молодого Зимина заметил и наверняка крепко запомнил. Посему попадаться ему на глаза Степан старался как можно реже: не то чтобы так уж прямо и боялся, но и на рожон лезть не хотелось. Да и не мог он, положа руку на сердце, спокойно на эту румяную рожу смотреть, по коей, будь его воля, с превеликим удовольствием хватил бы кулаком, а то и топорищем.
Худо было, что жену видел редко, но тут уж ничего не попишешь. Зато вдали от родной деревни, в московской суете да сутолоке, в тяжкой и усердной, до седьмого пота, работе, вспоминать давнюю страшную историю было некогда. И без того на душе тяжким камнем лежала и гнела двойная вина перед Зимиными: перед отцом за глупую, произнесённую вгорячах молитву, чтоб расстроилась продажа деревни Долгопятым, а перед сыном — за то дело возле Старостиных ворот, когда хотел у Долгопятого Ваньки пищаль вырвать, да не вырвал, а только беды натворил. И, если первая вина то ли была на самом деле, то ли не было её вовсе (Господь-то, поди, не всякой молитве внемлет), то Никиту Степан убил так же верно, как если бы сделал это своею собственной рукой. Ведь, кабы он боярского сынка тогда не напугал, если б не дрогнула у ирода толстомясого рука, он бы почти наверняка промазал! Что и как дальше было б, одному Богу ведомо, и гадать о том не след.
Расцеловавшись с земляком, Степан поинтересовался, каковы дела в деревне. Кудря, который, похоже, только и ждал этого вопроса, распираемый изнутри новостями, с готовностью выпалил:
— Неужто не слыхал? Боярина четвёртого дни схоронили!
— Да ну! — не поверил Степан.
— Да вот те крест!
— Это которого же? — спросил Степан, про себя пожалев, что схоронили только одного, а не двух разом, чтоб после с другим не вожжаться.
— Старого, Феофана, стало быть, Иоанновича, — вздохнул Кудря и, сдёрнув шапку, с напускной набожностью перекрестился на купола Василия Блаженного.
— Ага. — Степан был слегка разочарован. — Что ж он; до смерти опился иль кондрашка его хватила?
— Господь с тобой! Убили его!
— Как убили? Кто?
Заполучив благодарного слушателя, который ничего не знал о последних деревенских событиях, а потому заведомо не стал бы мешать рассказчику, встревая со своими поправками и уточнениями, Кудря приосанился, поправил на голове худую шапку, шмыгнул носом и, вынув из бороды застрявшую соломинку, заговорил. По его словам выходило, что по пути в Свято-Тихонову обитель, на лесной дороге, на боярский возок напали лихие люди числом едва ли менее сотни и учинили форменное побоище, истребив боярскую стражу и проткнув самого Феофана Иоанновича калёной стрелой, а после ещё угостив по голове саблей. Молодого боярина сберёг телохранитель, который в одиночку побил добрую половину ватаги, а оставшихся обратил в бегство.
При последнем известии Степан поморщился: жив, стало быть, ирод, и прихвостень его пернатый тоже уцелел. Вот бы кого тем лиходеям лесным на тот свет отправить! Да, видно, верна пословица: ворон ворону глаз не выклюет.
— Гляди ты, что деется, — нарочно, чтоб польстить рассказчику, изумился Степан. — Ай-яй-яй… Так вам ныне, стало быть, без боярина облегчение в жизни вышло?
— Как бы не так, — хмыкнул в жидкую бородёнку Кудря. — Какое там облегчение! Думай, что говоришь, человече! Ныне молодой боярин без отцовского глазу остался, волю себе дал. Ох и лют! А тут ещё оказия вышла: повелел ему царь-батюшка в своей боярской вотчине самому сыск учинить и тех лихих людей в лесу выловить и на государев суд привесть. Вот он ныне, как шальной, по всей округе со стражей скачет, да всё больше не по лесу, а по деревням да по полям — ну, аккурат по посевам, ровно те лихие люди станут, как перепёлки, в овсе хорониться. Убытку от него боле, чем от татарина… А то заявится в деревню, весь народ в кучу сгонит, привяжет которого к столбу аль на кобылу положит и велит напоказ плетьми сечь. Сказывайте, кричит, псы, где те лиходеи, отца моего погубители, скрываются и кто из вас, лукавых рабов, им помогает, хлебом-солью потчует? Ей-богу, знали б — сказали непременно. Под плетьми что хошь сказать можно… Сечёт-то знаешь кто? Энтот… в перьях. Вот ведь нехристь! До того рука тяжела, будто и не человек вовсе, а медведище матёрый!
— Ого, — сказал Степан. — Да, у этого запоёшь.
— Что ты! — с готовностью подхватил Кудря. — Соловушкой зальёшься!
Степан задумчиво покивал головой. Число лесных разбойников, что напали на боярский возок, Кудря, без сомнения, сильно преувеличил, зато насчёт порки ни словечком не приврал. О том, как управляется с плетью ряженный не то петухом, не то цаплей боярский шут, Стёпка Лаптев знал не понаслышке. Прославленный своим злопамятством боярин, конечно же, не забыл ему попытки напасть на сына, и, как только земля Зиминых царским повелением присоединилась к его вотчине, перво-наперво распорядился высечь дерзкого холопа. Для Степана то была первая в жизни порка (не считая, конечно, отцовских вожжей, кои неизменно следовали за размалёванной печкой), и запомнилась она ему крепко. И стыдно было перед людьми, и страшным казалось невиданное пернатое чудище с кнутом, а уж как дошло до самого дела, так Степан сразу же, с первого удара, понял: ежели это переживёт, боле его в жизни ничем не напугаешь.
И ничего, пережил, хотя, между прочим, мог бы и сгинуть через своё упрямство. Позориться не хотел и потому ни разочку не вскрикнул, покряхтывал только. Пернатый кат, видать, к такому не привык и по всему твёрдо себе положил любой ценой сломить холопье упорство. Так они и тягались — один хлещет, другой терпит. Ясно, тяжба у них неравная выходила: тому, который с кнутом, как ни крути легче. У Стёпки уж и в глазах темнеть начало, да тут, слава богу, плети, боярином отмеренные, все вышли, и стражники палача оттащили и кнут у него отняли. Насилу угомонили — всё рвался, зверюга, дело до конца довести. А Степан после долго ни ходить, ни сидеть не мог, так целую неделю на брюхе и провалялся. Бабке Агафье, травнице, спасибо — выходила, залечила кровавые рубцы примочками из лесных трав, уняла лихорадку настоями. Не то и помереть мог, и очень даже запросто.
— Поглядеть бы хоть одним глазком, что у этого ирода под личиной, — задумчиво проговорил Степан, глядя, как над зубцами кремлёвской стены чёрными точками вьются потревоженные колокольным звоном галки.
— Долгопятовская дворня шепчется, будто у него там и вовсе ничего нет, — шмыгнув носом и утёршись рукавом, заговорщицким тоном сообщил Кудря. — Будто бы костяк один. А не то волчья морда… Брешут, конечно, — добавил он с рассудительностью, которая в его устах казалась удивительной, ибо сам он был первый на обе зиминские деревни враль и пустозвон.