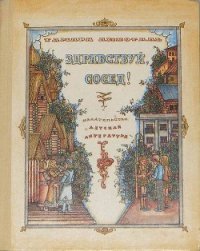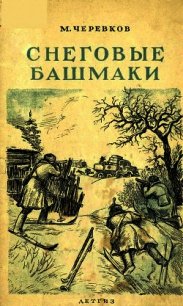Повесть о славных богатырях, златом граде Киеве и великой напасти на землю Русскую - Лихоталь Тамара Васильевна
Думал Добрыня ещё и о другом, и суровая складка все глубже прорезала его озабоченное лицо. Он знал то, чего не ведал пока никто.
Великий князь со своей дружиной не пришел, как обещал, на подмогу, не ударил по поганым. Удрав из Киева, выжидал, как обернётся дело. И даже теперь, когда защитники города, истекая кровью в боях с половцами, напрягали последние силы, он не явился на поле брани. Покружив немного, снова двинулся на Киев. Прознав об этом, ночью тайно бежал из стольного Волх. А пока князья делят стол, здесь льется и будет литься кровь. Будут падать на землю, чтобы уже никогда не встать с нее, все эти живые, сильные, молодые.
В шатер полководца один за другим входили вызванные военачальники. Выслушивали приказания. Молча кланялись. И в этом молчании была торжественная готовность встретить кровавый завтрашний день. Снова раздвинулись полы шатра. Вошедший остановился совсем близко. Добрыня устало поднял голову.
Глянул.
Вздрогнул.
Будто очнулся.
Алёша смотрел в лицо Добрыни, и взгляд его был чист и прям. Не то чтобы он забыл верхнюю светелку, куда торопливо и легко взбегал по лесенке, сероглазую женку за шитьем, алую нитку, которую однажды он потянул за копчик, распуская ее шитье… Не забыл он и вечера, когда сидел женихом мужней жены в доме друга. Но сейчас и любовь и вина одного, и гнев и обида другого отступили перед тем, что ждало их. Кровь, и та, что уже была пролита, и должна была пролиться еще в этом предстоящем бою, смыла все, что легло между ними. Глядя в измученное, постаревшее лицо Добрыни, Алёша хотел только одного — быть с ним рядом.
Соратником.
Помощником.
Другом.
Побратимом.
Если останется жив — на все дни и лета.
Если падет в бою — до смертельного часа.
Если вместе придется предстать им перед Всевышним — на веки вечные.
…Война может прийти по-разному. Но всегда во все эпохи как ее неотступный спутник следует пожар.
Тянуло дымом — не печным, когда под утро в пекарне на подворье пекут на братию хлебы, варят постное либо мясное варево. Тянуло гарью. Это был запах беды. Он давно уже стоял округ, сгущаясь, плыл, над обителью. Непрестанно пылили дороги. Мчались в возках, тряслись на телегах, шли пешком, таща на себе скарб. Гнали ревущую скотину, тащили плачущих детей.
Бояре.
Ремесленники.
Смерды.
Монастырские стены жженого кирпича были крепки. Не раз отсиживались за ними жители окрестных сел и городов. Может, и в этот раз, бог даст, отсидятся. Жители готовились к осаде и бою. И только один человек не принимал участия в суете. Не шел на стены с копьем и секирой, не варил смолу в котлах, под которыми горели костры. Не молился с монахами в соборной церкви. Казалось, ему нет дела до того, что творится вокруг. Но это было не так. Согнувшись, он сидел над пергаментом и, не торопясь, выписывал буквы, словно хотел передать лежавшей перед ним телячьей коже все, что видел, понимал, чувствовал — и дымный запах беды, и плач детей, которым предстоит вскоре умереть вместе со взрослыми, и отчаянную смелость защитников города, и его обреченность.
Он сидел и писал и тогда, когда поганые волнами лезли на стены, когда вспыхнул пожар и горели, полыхая, монастырские постройки, и тогда, когда в пролом стены с диким гиканьем ворвались враги, и тогда, когда бой уже шел в церкви — последнем оплоте защитников, и тогда, когда обрушились своды, погребая под собой и писца, и написанную четким уставным письмом телячью кожу, на которой было написано: «Кровавого вина хватило вдоволь. И сватов напоили, и сами напились сполна». Он написал так потому, что был настоящим писателем.
Ещё лежали в поле убитые, и тела их холодели, дожидаясь своего череда на место в земле. Ещё стонали в беспамятстве побитые и порубленные, и доля их решалась неведомой судьбой.
Ещё брели по домам оставшиеся в живых, и тяжёлая их победа устало и горестно брела вслед за ними.
А в Киев въезжал с ближней дружиной и боярами Великий князь. Враг был разбит, и орды его снова откатились в степь. Весенний день вставал тепл и светел. Сиял куполами златоглавый город. И издали казался праздничным и радостным. Но только издали. Сразу же за переправой на Подоле в глаза бросилась непривычная пустота улиц. На их крутых извилинах не сновал, как обычно, посадский люд, не толпился у лавок и мастерских. Настороженно и боязливо глядели подслеповатыми окошками жавшиеся друг к дружке домишки на маленького человека в доспехах, неловко качавшегося в седле, на бояр в зимних, не по дню шубах, двигавшихся длинною чередою, кто верхом, кто на возах, на княжескую дружину. Тихо и пусто было и на рынке, где меж торговых рядов и глухо закрытых лавок бродили голодные псы.
Казалось, что в город въезжал не правитель с победой, а враг. Может, так оно и было на самом деле. Не успел княжеский въезд еще даже подняться в гору, его будто застопорило. Полезли из возков шубы и кафтаны, толкались не по-боярски. Белым остовом, начисто обглоданным огнем, возвышался на пепелище знаменитый терем тысяцкого. Где добро? Серебро? Золото? Понятно где. Разграбили! Давно уже проклинали должники Путятина, которым давал под большие проценты ссуды ростовщик-тысяцкий, кабальные холопы, попавшие в неволю с женами и детьми. Грозились: «А Мышатычке — смолы котёл!» И вот теперь…
В этот час никто не поминал, как попало оно — это золото и серебро — в подвалы тысяцкого, как примучивал смердов бывший суздальский воевода, как оседало в его закромах то, что должно было течь в государственную казну. Все; и бояре, и дружинники, и сам Великий князь видели: разграблены, сожжены хоромы тысяцкого. А там дальше, на Горе, подворья и усадьбы, терема бояр, ближней дружины, дворец Великого князя.
Бояре бурлили гневно.
Ограбили!
Разнесли!
По миру пустили!
Разбойники! Тати!
Великий князь тоже спешился и смотрел на белокаменный остов среди пепелища, почему-то вспомнился разговор с Ильёй Муравлениным, чистый и твёрдый взгляд богатыря. Правду говорил Илюша, ни словечка не прибавил. Только у него своя правда, а у этих, в кафтанах и шубах, своя. Рвут себе земли и угодья, примучивают смердов, тянут из казны — что поделать. Земли на Руси пока хватает. Смерды, они, как бараны, сколько бы не стригли — обрастут снова. А казна хоть и не полна, но пустой не останется. И все же он и вот эти, что стоят тут рядом, связаны одной веревкой. Они были, есть и будут с ним. И пока это так, будет под ним и Великокняжеский стол. Кто пытался спихнуть его со стола, кто величал Великим князем колдуна Волха? Те, кто, притаясь, сидят сейчас в своих домишках на Подоле. Не забыть ему, как орали они; «Дай, князь, оружие!» Страшнее грома был этот крик. И Илюшенька-храбр, только вышел из темницы, был с ними. Хорошо еще, что вес так обернулось. Me долго посидел на столе, сбежал в свои дремучие земли проклятый колдун Волх. Поганых разбили. А он, Великий князь, въезжает в стольный с оголодавшей, но целой дружиной. Хорошо, что не послушал он тогда Добрыню и не послал ее в бой. Теперь, именно теперь она нужна будет здесь, в столице, а не на поле брани.
Великий князь оглянулся вниз на пустынные по-прежнему улицы Подола. Взобрался на коня и, не мешкая больше, поскакал к дворцу. Он торопился. Сейчас и только сейчас, потому что потом будет поздно. Вскоре по улицам столицы скакали дружинники. Гнали, подталкивая копьями и пиками, тащили, скрутив руки, волокли волоком, оставляя на мостовой кровавые следы, нет, не поганых степняков, своих, русских, посадских, смердов и прочих людишек.
Тех, кто кричал: князем колдуна Волха.
Тех, кто требовал оружия.
Тех, кто грабил боярское добро.
А кто величал, кто брал оружие, чтоб идти биться с погаными, кто грабил? — разве можно было упомнить, разобраться. Потому и не разбирали.
Не потаённо в темнице, на виду — чтоб неповадно было впредь иным прочим, отсекали головы, рубили насмерть.
Кто-то молча перекрестился перед тем, как осесть кулем на землю, кто-то хрипло выкрикивал проклятия, кто-то божился, что не ведал про Волха, не брал оружия, не имал чужого добра. Молодой простолюдин со связанными руками стоял, морщась от боли. Горела огнём рана, полученная в бою с половцами, И сейчас, дожидаясь своего череда, он так ясно вспомнил пику врага, ее неотвратимо приближавшееся острие и снова и снова видел мысленным взором, как падает эта пика вместе с рукой половчанина. Он тогда ничего не понял, даже не почувствовал удара, только ощутил теплоту собственной крови. Это Илюша Муравленин, с которым он подружился в темнице, свалил половчанина. Ещё слабый от раны, Онфим после победы вернулся в Киев. Его не было в стольном, когда жгли терем Мышатычки. Ведь он тогда был там — на поле боя. Но куда идти? Кому доказывать? Где искать правду? Теперь, стоя перед княжескими дружинниками, он не чувствовал ни страха, ни даже обиды. И жалел только об одном, что тогда острие половецкой пики не прошило его насквозь. И, будто решив поторопить опаздывавшую смерть, шагнул вперед. Но ему не суждено было умереть и в этот раз. Среди дружинников произошло шевеление. Гонец передал: Великий князь, изъявляя милость, велел оставшихся не лишать жизни, а отпустить, выколов перед тем очи. Но Онфим не знал этого и не поглядел перед наступлением вечной тьмы на синее небо, белые облака и золотые главы собора.