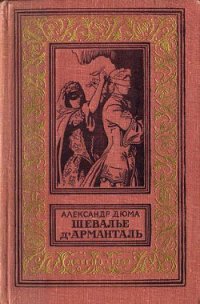Блэк. Эрминия. Корсиканские братья - Дюма Александр (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
Наконец, однажды молодая девушка с чужой помощью смогла встать с постели; она сидела у окна в огромном кресле шевалье и с тем наслаждением, которое свойственно всем больным, впитывала горячее и пронизывающее тепло солнечных лучей, падавших на нее, а легкий ветерок, весь пропитанный благоуханием роз в саду, ласково играл с несколькими прядями ее золотистых волос, выбившихся из-под маленького чепчика.
Время от времени она поворачивалась, чтобы взглянуть на де ля Гравери, который, стоя позади нее, опершись двумя руками на спинку кресла, с любовью разглядывал ее; она же, в свою очередь, пожимала ему руку и целовала ее с восторженным чувством детской признательности; затем она вновь погрузилась в глубокую и мечтательную задумчивость, ее взор блуждал по саду, в котором в эту пору весь розарий был усеян тысячами цветов различных оттенков.
Шевалье склонился к девушке.
— О чем вы думаете, Тереза?
— Мой ответ покажется вам довольно глупым, сударь, но я не думаю ни о чем, и, однако, мне доставляет удовольствие эта созерцательная мечтательность. Спросите меня, что я вижу, когда смотрю на небо, и я вам отвечу то же самое; я не вижу ничего, и, однако, мой взор будет сосредоточен на том, что является самым величественным, самым прекрасным и самым непостижимым на свете; нет, я испытываю неописуемое блаженство, мне мнится, что я перенеслась в иной мир, чем тот, в котором жила до сих пор и в котором так много страдала. Там, куда я переношусь, все такое возвышенное, такое доброе и такое прекрасное!
— Дорогое дитя, — пролепетал шевалье, вытирая слезу, блестевшую в уголке его глаза.
— Увы! — поворачиваясь к шевалье с глубокой грустью продолжала Тереза, не видевшая этой слезы. — Почему вы меня разбудили? Это счастье, как любые другие радости и наслаждения этого мира, всего лишь греза; но эта греза так сладка, а пробуждение так печально!
— Вас кто-то или что-то обидело, дитя мое? Находите ли вы недостаточным те заботы, которыми окружают вас в этом доме? Говорите же! Вы должны были, однако, заметить, что желание видеть вас счастливой стало единственной моей целью в жизни.
— Значит, вы меня любите? — спросила девушка с очаровательной наивностью.
— Если бы вы не внушали мне искреннюю и глубокую привязанность, разве стал бы я для вас тем, кем я стал, или, вернее, тем, кем стараюсь стать, Тереза?
— Но как и за что вы меня любите?
Шевалье некоторое время помедлил с ответом.
— Вы напоминаете мне мою дочь.
— Вашу дочь? — переспросила Тереза. — Вы ее потеряли, сударь? О! Мне вас жаль; я чувствую, что если господь отымет у меня дитя, которое он вложил в мое чрево, чтобы утешить меня в моих несчастьях, то ничто более не удержит меня в этом мире; ведь я смирилась с необходимостью остаться здесь, лишь мечтая о той нежности и любви, которой одарит меня это драгоценное крошечное существо.
Молодая девушка впервые заговорила о своем положении, и она делала это с такой легкостью и непринужденностью, которая, не имея ничего общего с бесстыдством, все же показалась странной господину де ля Гравери. Он счел нужным сменить тему разговора и подумал, что наступил благоприятный момент расспросить Терезу о ее прошлом.
— Так, значит, вы много страдали, бедняжка?
— О! Да! Я была очень несчастна, так несчастна, что часто спрашивала себя, неужели у бедных Бог тот же, что и у богатых. Я еще очень молода, не правда ли? Мне ведь даже не исполнилось еще и девятнадцати лет; но, увы, мне кажется, что нет такого несчастья, ниспосланного им на землю, которого бы я не познала.
— Но ваша семья?
— Моя семья, по крайней мере та, которую я знала, состояла из бедной старой женщины, которая не могла чувствовать боль так, как чувствовала ее я, но которая страдала вместе со мной; впрочем, когда я закрываю глаза и начинаю рыться в глубинах своей памяти, я вижу очень далеко, как будто во сне, мое первое детство, которое ничем не походит на второе, то есть на то, которое было бы моим, если бы я была родной дочерью мамаши Денье. О! Она тоже до конца испила чашу страданий, выпавших на ее долю!
— Это была… ваша мать? — с волнением спросил шевалье.
— Она звала меня своей дочерью; но теперь, когда я повзрослела, я не думаю, что она могла быть моей матерью: она была слишком стара для этого.
— А что вам говорят об этом детстве ваши воспоминания? — заинтересованно спросил шевалье. — О! Скажите, Тереза, скажите! Вы не способны представить, вы не можете понять, как я дорожу вашим рассказом. Ведь я сомневаюсь, дитя мое, что вы питаете ко мне достаточно доверия, чтобы поделиться всем, что знаете о себе.
— Увы, сударь! У меня нет иного желания, как рассказать вам все; но я почти ничего не помню; единственное, в чем я твердо уверена, что не всегда носила лохмотья, с которыми не расставалась всю свою юность. Особенно мне запомнилось, что когда я проходила мимо Тюильри, то моей бедной приемной матери всегда приходилось меня утешать. Я заливалась слезами, умоляя ее позволить мне пойти поиграть под каштанами в серсо или в веревочку, как в пору моего первого детства.
— И ни один образ из вашего первого детства не запечатлелся в вашей памяти?
— Ни один! Я не помню ни когда, ни как вместо благополучия и достатка очутилась в бедной лачуге мамаши Денье, где прожила десять горьких лет. Ну, что вы, сударь! Эта бедная женщина была добра ко мне; она любила меня настолько, насколько могут любить бедные; ведь что бы там ни говорили, а нищета сильно иссушает сердце, и когда нет хлеба, когда день и ночь голод стучится в вашу дверь, когда, оглянувшись вокруг себя, видишь, что нет ни средств к существованию, ни надежд; когда Господь Бог так жесток к своим детям, очень трудно быть снисходительным и добрым к другим! И в те моменты, когда наши дела шли из рук вон плохо, и мы были вынуждены идти просить милостыню у дверей какого-нибудь трактира у заставы Вожирар, а мне не удавалось вызвать к себе жалость, матушка Денье порой задавала мне трепку; но это длилось недолго, ее гнев стихал при виде моих первых слез: она просила у меня прощения и обнимала меня; тогда мы плакали вместе и на несколько мгновений забывали о наших бедах.
— А как же вы покинули вашу приемную мать, дорогое дитя?
— Увы, сударь, это не я покинула ее, это она ушла в тот мир, который лучше нашего. В последние дни ее болезни мне исполнилось пятнадцать лет; она так настойчиво призывала меня к стойкости, добродетели и смирению, что, проводив ее в последний путь, видя, как ее опускают в общую могилу, где она будет лежать вместе со своими товарищами по жизненным невзгодам, обратившись к нашему милостивому Господу с горячей молитвой, я поднялась с колен, чувствуя, что стала сильнее и лучше, чем когда бы то ни было; несмотря на свой юный возраст, я уже предвидела опасности, поджидавшие меня в моем одиночестве; не находя в себе сил и не желая отмахнуться от них или бросить им вызов, я решилась бежать от них. Я обратилась к монахиням, которые отдали меня обучаться ремеслу; к несчастью, через короткое время я стала очень ловкой мастерицей.
— Но что же в этом плохого, моя дорогая?
Тереза закрыла лицо ладонями.
— Ну, что ты, что ты! Продолжай! — произнес шевалье самым ободряющим тоном, на который был способен.
— Да, я должна рассказать все, — ответила молодая девушка, — и вы такой добрый, такой сострадательный, вы простите бедной сироте ее грех от своего имени и от имени света. Вы говорите, что хотите стать мне отцом, тогда вы обязаны знать всю правду. Это поможет вам ближе познакомиться с вашей приемной дочерью, и еще мне кажется, что, когда я вам расскажу все, когда вы узнаете, что может извинить мою ошибку, я буду свободнее чувствовать себя с вами.
— Говорите же, дитя мое, и рассчитывайте на мою снисходительность, она будет заодно с моей нежностью и избавит вас от всего тягостного и мучительного, что могло бы содержать ваше признание.
— О! Да, да! Будьте уверены, вы узнаете обо всем, — отвечала Тереза, протягивая шевалье руку, которую тот отечески сжал в своих ладонях.