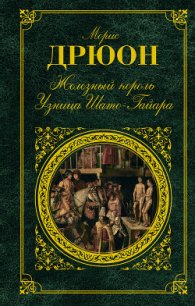Французская волчица - Дрюон Морис (читать книги полностью .txt) 📗
Наступило неловкое молчание, и ребенок отлично понял, что трое этих мужчин чем-то сконфужены. Пьер подтолкнул его к Гуччо.
– Жанно, это...
Надо было что-то сказать, сказать Жанно, кем ему приходится Гуччо; и сказать надо было только правду.
– ...это твой отец.
Гуччо, пусть это было нелепо, ждал бурной радости, объятий, слез. Маленький Жанно поднял на него голубые удивленные глаза.
– А мне сказали, что он умер, – произнес он. Гуччо словно ударили; злобная ярость вскипела в нем.
– Нет же, нет, – поспешил вмешаться Жан де Крессэ. – Он был в отъезде и не мог писать нам. Не так ли, дорогой Гуччо?
«Сколько же лжи пришлось выслушать этому ребенку! – подумал Гуччо. – Терпение, терпение... Эти злодеи дошли до того, что сказали мальчику, будто его отец умер!» И так как нельзя было больше молчать, он проговорил:
– Какой он светловолосый!
– Да, он очень похож на дядю Пьера, брата нашего покойного отца, чье имя я ношу, – ответил бородач.
– Жанно, иди ко мне. Иди, – позвал Гуччо.
Ребенок повиновался, но его маленькая шершавая рука словно чужая лежала на ладони Гуччо, и когда тот поцеловал его, он вытер щеку.
– Мне хотелось бы, чтобы он побыл со мной несколько дней, – продолжал Гуччо, – я отвезу его к моему дяде Толомеи, которому не терпится взглянуть на внука.
При этих словах Гуччо машинально, совсем как Толомеи, прикрыл левый глаз.
Жанно смотрел на него, открыв рот. Сколько же у него, оказывается, дядей! Все только и говорят о каких-то дядях.
– У меня в Париже есть один дядя; он присылает мне подарки, – проговорил он звонким голосом.
– Как раз к этому дяде мы и поедем... Если твои дяди ничего не имеют против... Вы не возражаете? – спросил Гуччо.
– Конечно, нет, – ответил Пьер де Крессэ. – Его светлость Бувилль предупредил нас об этом в своем письме и наказал нам исполнить вашу просьбу.
Нет, решительно эти Крессэ боялись даже пальцем пошевелить без разрешения Бувилля!
Бородач мечтал о подарках, которые банкир не преминет сделать своему внучатому племяннику. Очевидно, расщедрится и даст кошель золота, что будет весьма кстати, ибо в этом году на скотину напал мор. И кто знает? Банкир стар, возможно, он собирается включить мальчугана в свое завещание?
А Гуччо уже предвкушал месть. Но месть плохое лекарство от утраченной любви.
Первым делом мальчика прельстил конь Гуччо и сбруя с папскими крестами. Никогда еще ему не приходилось видеть такого красивого скакуна. Со смешанным чувством любопытства и восхищения разглядывал он также одеяние этого свалившегося с неба отца. Он любовался узкими панталонами – даже на коленях не было складок, мягкими сапожками из темной кожи и дорожным костюмом – такой костюм он видел впервые: короткий, с маленьким капюшоном плащ из крапчатой материи цвета осенней листвы, застегивающийся спереди до самого горла на множество пуговиц, пришитых тесемками.
Правда, у сержанта графа Бувилля наряд был, пожалуй, еще более блестящий и бросающийся в глаза: голубая ткань переливалась под солнцем, отвороты на рукавах и низ камзола украшены фестонами, на груди вышит графский герб. Но ребенок сразу заметил, что Гуччо командовал сержантом, и поэтому проникся глубочайшим уважением к своему отцу, который говорит тоном хозяина с человеком в таком великолепном одеянии.
Они проехали уже около четырех лье. На постоялом дворе в Сен-Ном-ла– Бретеш, где они сделали привал, Гуччо привычным властным тоном потребовал яичницу с зеленью, жаренного на вертеле каплуна, сыр. И, конечно, вино. Служанки бросились выполнять заказ, чем еще больше возвысили Гуччо в глазах Жанно.
– Почему вы говорите иначе, чем мы, мессир? – спросил он. – Вы даже произносите слова совсем не так, как мы.
Гуччо задело это замечание относительно его тосканского акцента, сделанное к тому же собственным сыном.
– Потому что я из Сиенны, из Италии, там я родился, – ответил он с гордостью. – И ты тоже станешь сиеннцем, свободным гражданином этого города, где мы всемогущи. И потом, зови меня не мессир, a padre [13].
– Padre, – покорно повторил малыш.
Гуччо, сержант и ребенок уселись за стол. В ожидании яичницы Гуччо начал учить Жанно итальянским словам, называя различные предметы повседневного обихода.
– Tavola, – говорил он, кладя ладонь на край стола. – Bottiglia, – продолжал он, поднимая бутылку, – vino.
Он испытывал стеснение перед ребенком и вел себя не совсем естественно; страх, что он не сумеет заставить мальчика себя полюбить, и страх, что сам он не сумеет его полюбить, буквально парализовал Гуччо. Напрасно он твердил про себя: «Это мой сын», он по-прежнему ничего не ощущал, кроме глубокой враждебности к людям, вырастившим Жанно.
Никогда еще Жанно не пил вина. В Крессэ довольствовались сидром, а то и пивом, как крестьяне. Он отпил несколько глотков. Яичница и сыр были для него не в новость, но жареный каплун – это уж праздничное блюдо; да и вообще пир не в урочное время, где-то на дороге, ужасно ему нравился. Он не чувствовал страха, а все это приключение заставляло его забыть о матери. Ему сказали, что он увидит ее через несколько дней... Париж, Сиенна – все эти названия мало что говорили его уму, и он даже не представлял себе, близко ли это или далеко от их Крессэ. В следующую субботу он вернется на берег Модры и объявит дочери мельника и сыновьям каретника: «Я сиеннец», и ему не нужно будет ничего объяснять, ибо товарищи его игр знают еще меньше, чем он, о Париже и о Сиенне.
Проглотив последний кусок, вытерев кинжалы хлебным мякишем и засунув их за пояс, они снова сели на коней. Гуччо поднял ребенка и посадил его впереди себя поперек седла.
От обильного обеда и особенно от вина, которое он попробовал впервые в жизни, малыша клонило ко сну. Через полчаса он уже заснул, не чувствуя конской рыси.
Нет ничего трогательнее вида спящего ребенка, особенно среди дня, когда взрослые бодрствуют. Гуччо поддерживал рукой это маленькое существо, уже достаточно тяжелое, но беспомощное, мерно покачивавшееся в ритм скачки.
Он машинально коснулся подбородком белокурых волос, и еще крепче сжал руку, чтобы теснее прижать к груди эту круглую головенку, защитить этот глубокий сон. От маленького сонного тела исходил аромат детства. И внезапно Гуччо почувствовал себя отцом, он гордился тем, что он отец, и на глаза у него навернулись слезы.
– Жанно, мой Жанно, мой Джаннино, – прошептал он, касаясь губами теплых шелковистых волос.
Боясь разбудить ребенка и желая продлить счастье, он пустил коня шагом и сделал знак сержанту, чтобы тот последовал его примеру. Разве так уж важно, когда они приедут! Завтра Джаннино проснется в особняке на Ломбардской улице, который покажется ему дворцом; вокруг него будут суетиться служанки, они его вымоют, оденут словно маленького сеньора, и вот тогда-то начнется волшебная сказка.
Мари де Крессэ, не торопясь, складывала свое так и не понадобившееся платье перед сердито молчавшей служанкой. Служанка тоже мечтала об иной жизни, надеясь уехать вместе со своей хозяйкой, и сейчас даже в ее молчании чувствовался упрек.
Мари перестала дрожать, слезы на глазах высохли: она приняла решение. Что ж, она подождет еще несколько дней, самое большее неделю. Сегодня утром ее охватил ужас. И виноваты в этом девять лет неотступных мыслей об одном и том же, вот почему на нее напал болезненный страх и она ответила нелепым, безумным отказом!
И все оттого, что она думала о клятве, которую ее заставила некогда дать госпожа Бувилль, эта скверная женщина... И потом эти угрозы... «Если вы еще раз увидите того молодого ломбардца, это будет стоить ему жизни...»
Но столько времени с тех пор прошло! Сменились два короля, и никто не проронил ни слова. И сама госпожа Бувилль тоже умерла. Да и не противоречит ли вообще эта ужасная клятва всем законам божьим? Разве не грех запретить человеку рассказывать о своих душевных муках на исповеди? Даже монахини могут быть освобождены от своего обета. И потом, никто не имеет права разлучать супругов! Это уж совсем не по-христиански. К тому же граф Бувилль не епископ, да и не так опасен, как его покойная жена.
13
Отец (итал.).