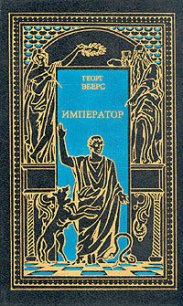Арахнея - Эберс Георг Мориц (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений .TXT) 📗
Наконец-то получил он давно желаемое повеление явиться перед царем и, вполне уверенный в том, что его ожидают необычайные отличия и милости, отправился Гермон во дворец. Архивариус Проклос, не упускавший случая оказать услугу племяннику богача Архиаса, в котором он нуждался, был его проводником и описывал ему внутреннюю отделку покоев царского дворца. Лишенная кричащей пышности, простота этой отделки свидетельствовала о благородном вкусе обитателя дворца. Повсюду виднелись в избытке мрамор и другие редкие породы камней, но самую большую ценность представляли собранные здесь барельефы. В той длинной галерее, по которой пришлось Гермону проходить, барельефы, которыми были отделаны стены, изображали сцены военных сражений, в которых отец царя, Птолемей I, участвовал в качестве командующего войсками великого Александра. На других же виднелись Афина, Аполлон, музы и Гермес, окружающие трон этого царя; дальше были изображения греческих философов и писателей. Прекрасные цветные мозаичные картины украшали полы; великолепные произведения живописи и скульптуры составляли главное украшение всех зал, в которых почти совсем отсутствовали золото и серебро. В зале, где Гермону пришлось ждать выхода царя, находилась одна из прекраснейших статуй Лисиппа и статуя Эроса работы знаменитого Праксителя. Ожидание показалось избалованному и самолюбивому художнику очень неприятным, а те несколько минут, которые посвятил его приему Птолемей II, ничем не подтвердили тех ожиданий и надежд, которые на них возлагал Гермон. Он раньше довольно часто видел царя, небольшого роста, с узкими плечами, слабого, ради собственной безопасности отправившего на тот свет двух братьев, а третьего — в ссылку, но который управлял теперь Египтом мудро и милостиво. Благодаря ему город Александрия продолжал расти и развиваться. Гермон только теперь впервые услыхал его голос. Он уже давно слышал, что звук его голоса был очень приятным, но не могло быть сомнения в том, что этот голос принадлежал страдающему человеку. Благосклонно и в то же время просто, как будто говорит с равным, задал царь слепому несколько вопросов, и те замечания, которые он делал по поводу ответов Гермона, свидетельствовали о пытливом и остром уме. Он видел Деметру, сказал он, и очень хвалит то, как понял и изобразил художник образ Деметры, потому что оно вполне соответствует характеру и сущности этой богини. Святость, которою как бы проникнута вся фигура божества, ему также нравится, потому что заставляет чувствовать молящихся в храме, что это — изображение существа, возвышающегося над всем человечеством.
— Правда, твоя Деметра не производит впечатления сильной помощницы в нужде и избавительницы. Она такая богиня, какими Эпикур себе представляет бессмертных. Не касаясь и не вмешиваясь в судьбу человечества, возвышается она над ним своим превосходством и своим благородством. Ты, как я вижу, принадлежишь к школе Эпикура.
— Нет, — ответил Гермон, — подобно тебе, мой повелитель и царь, я причисляю себя к ученикам мудрого Стратона.
— Вот как! — протяжным голосом произнес Птолемей, бросая удивленный взгляд на сильную, прекрасно сложенную фигуру слепого и на умное, выразительное лицо. — Тогда я могу с уверенностью сказать, что ты, творец «Мальчика с винными ягодами», еще до твоей трагической потери зрения испытал сильное внутреннее потрясение, изменившее твои воззрения.
— Мне действительно пришлось много и мучительно бороться перед тем, — возразил Гермон, — но успехом моей Деметры обязан я, вероятно, тому обстоятельству, что я нашел для нее модель, вполне воплощавшую образ этой богини.
Серьезно, покачивая своей белокурой головой, царь сказал тоном полного убеждения:
— Модель, как бы она хороша ни была, не много имеет значения при таком произведении, в особенности же для тебя. Я ведь с большим вниманием следил за тобой, когда ты боролся за правду против красоты, и был доволен, когда ты и молодежь такого же направления создавали что-либо в этом духе. Вы вносили что-то новое, имеющее, как мне казалось, здоровый фундамент, на котором можно было смело возводить новые основы искусства. Я думал, пусть сгладятся наросты и уродства этих попыток, и Гермон, его тень Сотелес и другие последователи откроют стареющему искусству, вечно повторяющему старое, новые пути. Наше время, таким образом, станет исходной точкой нового искусства. И вот потому-то я, позволь мне тебе это высказать, с сожалением увидал, что ты в этом произведении отказался от столь мужественно предпринятой тобой борьбы. Ты говоришь теперь, что ты в твоем произведении строго придерживался натуры, потому что ты взял из жизни модель для него. Я и не хочу в этом сомневаться, но ту печать божественности, которая лежит на твоей Деметре, нельзя найти у смертной. Пойми меня правильно! Это не есть уклонение от правды — хотя как часто идея справедливее заслуживает это высокое название, нежели явления, видимые нашим глазом! — но именно ты служил до сих пор другой правде. Если я верно понимаю направление твоего искусства, то его сущности должно быть противно то сверхчеловеческое достоинство и красота, которые ты придал твоей Деметре или твоей модели для того, чтобы облагородить и обоготворить ее. Тебе это вполне удалось, но вместе с тем это исключило твое произведение из области реальности, от которой ты не отступал до сих пор ни на один шаг. Сделал ли ты это бессознательно, в минуту душевного подъема, или ты почувствовал, что тебе и всем твоим не хватает средств для изображения божества и поэтому ты вернулся к манере старых мастеров — я не берусь решать. Одно только, что стало мне ясно, даже при первом взгляде на твою статую, это то, что твое последнее произведение означает поворот, полный разрыв с прежним, а так как оно тебе блистательно удалось, то, не потеряй ты зрения, ты бы, вероятно, идя дальше по тому же пути, перешел бы на старое направление, с пользой для твоего материального благосостояния, но вряд ли с пользой для искусства, которое нуждается в обновлении его застоявшихся жизненных сил.
— Позволь мне уверить тебя, мой повелитель, — ответил Гермон, — будь я в состоянии продолжать работать, то успех Деметры, какой бы большой он ни был, не заставил бы меня отступить от прежних убеждений и направления, признаваемых мною за истинные. Могу еще только добавить, что до моего ослепления все мои помыслы были заняты новым произведением, творя которое я мог бы не переступать ни на шаг границ правды и натуры.
— Арахнея? — спросил царь.
— Да, — горячо вскричал Гермон, — изваяв эту статую, я думал не только себе, но и всему моему направлению, служащему только правде, оказать большую услугу!
Тут царь прервал его и произнес холодным тоном:
— Совершенно напрасно думаешь ты так, если фракийка Альтея, это воплощение лжи, послужила бы тебе образцом для Арахнеи.
Затем, переменив тон, он добавил:
— Ты защищен теперь от нужды, если только твой богатый дядя не кинет своего состояния в одну из самых бездонных пропастей. Да поможет тебе философия Стратона лучше переносить ночь, окружающую тебя, нежели она мне помогла переносить чужие страдания.
С этими словами он покинул Гермона. Так окончилось свидание художника с царем, свидание, от которого он ожидал так много, и, глубоко взволнованный, приказал он своему вознице повезти его к Дафне. Она была единственная, которой он хотел рассказать, какое горькое разочарование принесло оно ему. Точно так же, как вот сейчас говорил ему царь, так же точно упрекали его многие за то, что он в своей Деметре изменил своим творческим принципам. Какая это была неправда и как это нелепо! Многие замечания знатоков могли бы вернее относиться к произведению Мертилоса, а не к его статуе. Но он ведь теперь знает, что его опасения там, в Теннисе, оказались неверны. Мягкое и нежное выражение лица Дафны было одно виной всему, мало подходила она к обыкновенной его манере. Точно хамелеон, поминутно отливающий другими красками, менялся и приговор о произведениях искусства. Давно ли, кажется, в день его приезда в столицу одно и то же мнение о его произведении собрало на встречу скульптора тысячи людей, а теперь как различны были суждения о его статуе! И давно ли осуждали и порицали его первые произведения, а теперь их восхваляют до небес. Чего бы он ни дал, чтобы иметь возможность хоть раз взглянуть на свое увенчанное лаврами произведение! Так как дорога, по которой он ехал, шла мимо храма Деметры, то он отдал приказание остановиться и вошел в него. Храм был переполнен молящимися. Заявление Гермона, что он желает войти в святилище, где находится статуя богини, и требует лестницу, чтобы пальцами ощупать ее лицо, было с негодованием отвергнуто жрецами и надсмотрщиком храма. То, что он требовал, было равносильно святотатству, и разве можно нарушать молитвенное настроение присутствующих! Главный жрец, вызванный Гермоном, подтвердил слова своих подчиненных, и после сильных пререканий должен был Гермон покинуть храм, не приведя в исполнение своего намерения. Еще никогда не жалел он так о потере зрения, как теперь, когда ехал к Дафне. Прибыв к ней, он излил перед ней все свое горе и объявил, что готов на все, лишь бы вернуть потерянное зрение. Дафна посоветовала ему вновь обратиться к знаменитому врачу Эразистрату и подчиниться его предписаниям, на что Гермон охотно согласился, только не сегодня, так как он обещал присутствовать на торжественном обеде в доме богатого судовладельца Архана.
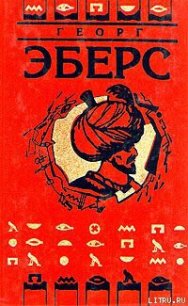
![Тернистым путем [Каракалла] - Эберс Георг Мориц (читать онлайн полную книгу .txt) 📗](/uploads/posts/books/31036/31036.jpg)