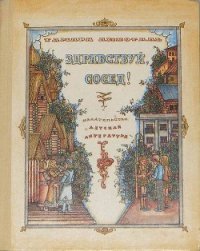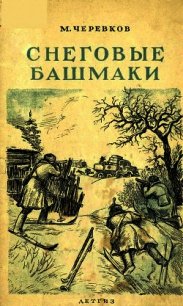Повесть о славных богатырях, златом граде Киеве и великой напасти на землю Русскую - Лихоталь Тамара Васильевна
Бояре слушали Хотенову похвальбу, посмеивались. Правда, тоже по углам, потихоньку. Не потому, что опасались Хотеновой, сабельки. Нет, этот саблю не вынет. Он и смолоду-то на рать не крепок был, а теперь и вовсе — брюхо жиром поросло. Зато исподтишка подшибить — это он мастер, Хотен весь в отца своего, Блуда. Будет с тобой на лавке беседы вести, винцо распивать, а сам такого наклепает — не отмоешься. Нальет в уши Великому князю. Хоть и ведомо всем, чего стоит Хотенова брехня, а все же дыму, говорят, без огня не бывает. Так что лучше молча посидеть, послушать Хотеновы байки. А ежели уши от них вянут, отойди в сторонку с миром, и все.
На Муравленина тоже косо поглядывали. Смерд от дома на Горе отказался по простоте, которая хуже воровства. На свойском коне ездит. К Великому князю вхож запросто. Иной боярин высокородный и то не день, не два милости княжеской дожидается. Загодя толчется возле думного советника, чтобы чиркнул по бересте, внёс в список на приём…
А этот смерд и сейчас протопал по дворцовым палатам, где сидят, разговаривая негромкими голосами, бояре, мимо знатных и родовитых, попер прямо к Великому князю в своих сапожищах.
Кстати, насчёт сапог. Ещё в ту пору, когда собрался Илюша из родного дома в отъезд, обливаясь слезами, смастерила Порфинья своему сыночку телогрею. А Иван сработал ему в дальнюю дорогу новые поршни. Может, и неладно кроены были, да крепко сшиты. Не для чужого небось. И путь неблизкий сыночку лежал. Только вот впору ли они пришли, не жали ли где и долго ли носил Илюшенька отцовский подарок или, служа у князя, скоро выслужил сапожки себе лучше да краше батюшкиных, я не знаю и врать не хочу. А старые Ивановы поршни, те, что скинул Илья, собираясь в путь, так и валялись под лавкой.
Вытащил их как-то Иван, повертел в руках, может, дать им ладу — да где там. Поршни пасти раззявили один шире другого; ни внизу латку поставить, ни вверху заплатку положить — дыра сквозь дыру просвечивает. Если не верите, можете сами посмотреть на них в музее. Похожи на калоши, только из кожи. Смотрите, но руками не трогайте. Потому как руками музейные экспонаты трогать нельзя. Так и написано: «Руками трогать воспрещается!» А смотреть можете сколько, угодно. Я тоже долго-долго стояла и глядела на них. Когда видишь перед собой вот такие башмаки, которые кто-то носил семь веков назад, то невольно думаешь: «Тянулись годы. Летели столетия. Шумели пожары. Гремели войны. А башмаки лежали себе тихо и мирно там, куда потихоньку от Порфиньи снёс их Иван на зады и закинул в лопухи. Только все глубже врастали в землю, пока не откопал их какой-то счастливец археолог». И боясь ещё поверить своей удаче, стоя на коленях, осторожно отряхал кисточкой с них землю и обдувал вековую пыль. И вот красуются под стеклом. Каждый может увидеть. Музеи открыт с 11 до 6. Только во вторник приходить не надо. Во вторник — выходной. Если пойдете, посмотрите там заодно еще и на шлем. Он тоже лежит под стеклом. Кованый лучшими мастерами, отделанный серебром. И лет ему почти сколько и чеботам. Тот, кому он принадлежал, обронил его, когда бежал, спасая свою голову. Потом, правда, говорят, спохватился и хотел откупить свой шлем, чтобы дело это наружу не вышло. Кому ж охота, чтобы через сотни лет люди вспоминали, как скакал он прочь от врага, кинув не только своей шлем, но и дружину. И вот что обидно: известно и имя князя, и то, что злополучный шлем принадлежал именно ему, а не кому другому. А про башмаки… Никто в них от врага не бегал, не кидал их, чтоб легче удирать было. И до сих пор не установлено точно, Ивановы это чеботы или нет. Одним словом, поршни — вот они, а хозяина вроде и нету. О самом Иване и то известно только, был он сыном Тимофея да Илье отцом приходился. Всё же мне думается, что башмаки те — Ивановы. Во всяком случае очень и очень похожие. И получилось-то все как. После отъезда Ильи станет Порфинья, бывало, прибирать в избе, заглянет под лавку и заголосит: «Где ты, мой сыночек милый, мой сокол ясный?! Далеко же ты залетел от родного дома!» И давай Ивана корить: зачем, мол, не удержал сына? Поглядел Иван, как жена убивается, и однажды, когда Порфиньи не было дома, взял те поршни, снёс их потихонечку за хлев и кинул в лопухи.
Но Порфинья не могла успокоиться. По ночам все глядела сквозь тьму в угол, где раньше сидел её Сидень. Не она ли вспоила-вскормила его? Не она ли таскала его тяжелого да безногого? Не она ли лоб отбила в молитвах? Одно только и просила — чтобы стали сильными да крепкими ноги его нехожалые. А может, не надо было молить? Может, лучше было бы ему всю жизнь так и сидеть на лавке сиднем? Тут-то, в избе, топлено. И кусок уж какой ни есть, а мать из своего рта вытащит — сыну в рот сунет. А уж если захочет кто обидеть, она, как волчица лютая, как медведица бессонная, загрызет зубами, задерет когтями.
И опять вспоминала заново, как поутру вывел Илюшенька коня. Трижды поклонился отцу с матушкой, дому и дубкам, перекинул через седло ногу и тронул коня. Она будто очнулась, бросилась следом, будто в первый раз поняла: едет! Хотела крикнуть: «Стой, сынок!» — схватить за узду коня, уцепиться за стремя, ползти следом по острому колкому снегу. Да не крикнула — голос пропал. Не схватила узду — руки-ноги онемели. Черен стал снег: тяжело осело вниз небо. А когда открыла Порфинья глаза, то увидела, что лежит она в избе на Илюшиной лавке, а рядом в ногах ее, опустив косматую голову, сидит муж ее Иван.
Так и остались они доживать свой век в опустелой избе — Иван да Порфинья, пока не свезли Ивана знакомой дорогой.
Поле.
Лес.
Ели до небес.
Заячий куст.
Медвежий дом.
На кладбище человечье.
А Порфинья всё жила, всё ждала. Потому что не было тогда ещё такой моды, чтобы стучался в дверь почтальон с похоронной. А письма сыновья писали не чаще, чем пишут теперь.
Великий князь встретил храбра попросту. Сам навстречу поднялся с резного стульца, хотел было милостиво потрепать Илюшу по плечику, да больно высоко тянуться до богатырского плечика. Не на цыпочки же вставать Великому князю. Всё равно глядел ласково в бородатое, прокалённое ветрами лицо. Даже Великому князю приятно вдруг среди иных прочих увидеть перед собой человечье лицо без льстивой скоморошьей маски, без тайной корыстливой хитрости в глазах, без угодливой улыбки. У самого на душе становится спокойней и чище. Просто сошлись по-доброму два человека: Чело и век — высокое творенье. И беседуют задушевно о житье-бытье, о жизни своей нелегкой, путаной, чуть отрешаясь от нее в этот дружеский час, возвысясь над нею. Посмотрел Илюша синими глазами и сказал:
— Уж ты, батюшка, пресветлый князь! — А еще сказал Илюшенька все, что па душе лежало, ничего не утаил. О Даниле Ловчанине, безвинно загубленном. О самом Великом князе и его недобрых делах.
Слушал Великий князь не перебиваючи, со вниманием. Только раз-другой вытер лысину шёлковым платочком. Очень даже интересно!
Случалось, съехавшись сюда во дворец, драли глотки, лаялись родичи — удельные князья, винили старшего брата, который им отца заместо: не так-де поделил волости, не так роздал сытые города. Рвали друг у друга куски земли Русской.
Бывало, шумели и палатах бояре высокородные, тоже требовали земель, угодий, ловищ и пересветищ, бобровых гонов, доли в данях. Но чтобы смерд князю указывал…
Слушал Великий князь, утирал лысину. Не перечил. Иной раз даже головой кивал: мол, твоя правда, друг Илья! Грешен. И потом, когда простясь, уже пошёл Илюша вон, сам чуть не до дверей провожал храбра.
Запершись в палате, не велел никого пускать к себе. Ходил, думу думал, головой крутил. Ведь верно сказал храбр, ведь правильно. В грехе живём. И сам он, Великий князь, глава государства, тайком наводил на землю Русскую лютых врагов, поганых половчан. Вёл игру с поляками, торгуя потихоньку родной землей. И даже бога предавал — обещал папе перейти в латинскую веру. И Ловчанина он сгубил, молодого Данилку-охотника. Не разбойники — княжеские слуги средь бела дня похитили Василису. Через верного человека был передан Данилке наказ: идти в Древлянскую землю, выведать, кто там мутит покой, кто хочет помешать княжеским планам. Данилка и сам родом из Дерев. Кто лучше него сможет проникнуть в эти дремучие глубинные земли? Кто сможет войти в доверие, все высмотреть и вызнать? А чтоб не упирался, как строптивый конь, удалой разведчик Данилка, и была взята заложницей жена его Василиса с дитём нерождённым в утробе. Так-то, Данилка. Непокорного коня арканом приводят в смирение. Накинут петлю на шею, затянут потуже. Ступай, Ловчанин! Делай, что велят! Вызнаешь, выведаешь, убьёшь смутьянов — вернёшься в стольный и получишь назад свою Василису-прекрасную, да ещё с приплодом. Видно, догадывался Данилка-разведчик, кто заводит смуту в Древлянской земле. Наперёд знал, кого убивать придется. Братьев родных своих — вот кого. Затянулась петля намертво.