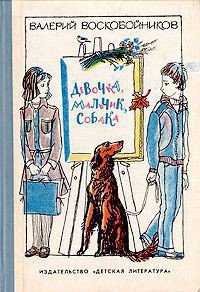Приключения мальчика с собакой - Остроменцкая Надежда Феликсовна (полная версия книги .TXT) 📗
— Что там еще? — сердито спросил он, когда Луций заглянул в дверь.
— Я узнал сейчас нечто очень важное для нашей семьи. Но сообщить тебе это могу только наедине.
Сенатор встал, топнул ногой, потом — другой, пробуя, не туго ли затянуты ремни, и приказал рабу:
— Выйди!
Когда тот закрыл дверь, Луций с таинственным видом приблизился к отцу:
— Я узнал, что он колдун.
— Кто? Это раб? — изумился сенатор.
— Нет. Сицилиец.
— О-о? — Склонив голову набок, Станиен хитро прищурился: — С каких это пор ты стал верить россказням старух? Я уже слышал это от твоей матери.
Подражая Хризостому, Луций покачал головой:
— Нельзя пренебрегать подобными предупреждениями. А что, если мать оказалась прозорливее нас с тобой?… Не забудь, эти головорезы-гладиаторы рядом. Твоя несправедливость может возмутить наших рабов, и они присоединятся к ним. Мы будем одни перед многочисленными врагами… — Видя, что отец хочет возразить, он поспешно добавил: — Даже те, кто нам; предан, будут раздражены…
Старший Станиен возмущенно вздернул голову.
— Они сочтут несправедливым это наказание, — сказал Луций. — Какими-то путями им становится известным все, что у нас тут делается. А ты даже не захотел выслушать сицилийца, чтобы установить истину… Ты прав: я не верю в колдунов, но… я считаю, что в минуту опасности лучше быть суеверным, чем неосмотрительным.
Речь сына произвела на сенатора впечатление. Затрудняясь принять какое-нибудь решение, он глядел в пол и жевал губами. Казалось, он внимательно рассматривает мозаику под своими ногами.
Луций начал терять терпение.
— Н-не знаю, — промямлил наконец Станиен. — Если я отменю наказание, они сочтут это трусостью.
— Они сочтут это милосердием, отец.
— Милосердием?… Это очень опасно! Во всей истории Рима нет ни одного случая, чтобы человек, поддавшийся милосердию, не погиб. Сила — вот что помогло Риму стать властелином мира!
— А разве сила на твоей стороне? — спросил молодой Станиен.
— Ты забываешься! — вспыхнул сенатор.
— Нет, отец. Мы с тобой можем говорить откровенно. В Риме нас защищает твое звание, богатство, весь строй Республики. Здесь же мы одиноки. Рабов много, а нас только трое!.. Да-да, трое! Никто, кроме Хризостома, не станет защищать нас с оружием в руках.
— Возмутительные речи! — вскипел Станиен и, как всегда после вспышки, тут же обмяк: — Может быть, ты и прав… — Он снова пожевал губами. — Не знаю… Подумаю… Иди… И пошли ко мне Мардония. Я его заставлю рассказать мне истину!
— Опять Мардония?! Или ты хочешь погубить себя и всех нас? Разве он скажет тебе правду?
— Но-но! — вспылил Станиен. — Кто ты такой, чтобы учить меня?
— Я не учу тебя, отец…
— Ты всего-навсего мой сын! — не слушая Луция, кричал сенатор.
— Я умоляю тебя, отец, а не учу. Я умоляю тебя: пожалей хоть Гая, если не жалеешь меня и мать!
Толстяк отдувался, не в состоянии вымолвить ни слова. Луций поспешил воспользоваться этой невольной паузой:
— Если бы видел, как Гай плакал, требуя, чтобы ему вернули его раба — этого мальчишку, которого ты ему подарил!.. И как мужественно взял он себя в руки!.. — И Луций описал отцу сцену в детской.
Гней Станиен умиленно улыбнулся:
— Так он хочет стать достойным звания консула?… Ишь, маленький честолюбец!.. Ну хорошо… Не надо Мардония. Я все обдумаю сам.
— А что сказать Гаю? Может быть, ты хочешь его видеть, отец?
— Нет! — отрезал Станиен, испугавшись встречи со своим своевольным сынишкой. — Я должен сперва подумать. И вообще мне это надоело! — выкрикнул он, снова распаляясь. — Никогда еще наказание раба не вызывало в моем доме столько волнений! Довольно толковать об этом сицилийском мальчишке, у меня есть и другие заботы!
Луций, зная отца, понял, что ничего больше не добьется, и со вздохом вышел.
Глава 10. Пробуждение Долговязого
Долговязый проснулся от птичьего щебета и блеяния голодных овец. Высунул голову из шалаша… Что это? Мерещится ему или действительно нет ни одной овцы на пастбище?… Все загоны были заперты. Сбившись в кучи у выходов, овцы блеяли на разные голоса: одни — гневно, другие — печально, третьи — словно подпевая, чтобы не отстать от подруг. Больше всех бесились полугодовалые ягнята; стуча раздвоенными копытцами в тростниковые стены, они влезали друг на друга и подпрыгивали, в надежде очутиться по ту сторону загородки.
«Вот те на! — подумал Долговязый. — А где же хваленый сицилиец со своим псом?» Он бросился открывать ближайший загон. «Ну погоди же ты! — ворчал Долговязый, выпуская овец. — Я этого так не оставлю. Пусть только приедет старший пастух или вилик, я им расскажу о твоем усердии! Ну как я один переведу овец на новое пастбище?… Вместо того чтобы помочь мне убрать загоны да погрузить на лошадей плетенки и колья, он сбежал куда-то!.. Да еще — с собакой!»
Наконец он выпустил всех овец и унес наевшихся малышей в их загон. Лучшее время пастьбы — с рассвета до восхода солнца — уже прошло.
Овцы без всякого порядка разбрелись по лугу и щипали траву. Долговязый не мог представить себе, как один соберет их и погонит на водопой. Все теперь приходилось делать самому: и маток доить, и смотреть, чтобы сотня не ушла в лес, и молоко сливать и заквашивать. «Как это я раньше один управлялся!» — недоумевал он, отирая катившийся по лицу пот.
Уж солнце высоко поднялось, а Клеон все не возвращался. Залпом выпив кружку овечьего молока, Долговязый сунул за пазуху лепешку и, решив, что Клеона не дождешься, погнал овец на водопой к ручью.
Ну и пришлось же ему побегать, чтобы собрать стадо! Он с досадой швырнул бич и, отдуваясь, уселся под пинией [100] у входа в пещеру, из которой вытекал ручей. По стволам деревьев вился дикий виноград. Долговязый сорвал темную спелую гроздь и, заедая кисловатые ягоды лепешкой, впервые в это утро спокойно поел. Жужжание пчел и стрекотание цикад навевало сладкую дремоту; пастуху не хотелось выбираться из прохладного оврага, но он опасался, как бы не застал его здесь Мардоний или раб с сыроварни, который мог приехать за молоком, не зная, что пастухам приказано перейти на новое пастбище. «И так уж ославити меня лентяем, — подумал он, со вздохом поднимаясь на ноги. — А какая охота стараться, если ягнят все равно не уберечь?… И куда только запропал этот малый, не понимаю. Уж не сбежал ли совсем? С него станется!»
Он перегнал овец на опушку леса и растянулся под деревом.
Наступило самое жаркое время дня. Все, казалось, уснуло. Даже птицы на ветвях умолкли. Только гудели шмели, жужжали пчелы да беспрерывно стрекотали цикады. Боясь поддаться дремоте, Долговязый перевернулся на живот и, подперев подбородок ладонями, стал смотреть, как пляшут над цветами бабочки и деловито копошатся в душистых венчиках пчелы. Мало-помалу голова его отяжелела, веки закрылись сами собой, руки опустились… Припав к ним носом, Долговязый сладко захрапел.
— Эй, Долговязый!.. Эй!.. Эй!..
«Кто это орет? — еще не разомкнув век, подумал Долговязый. — Клеон или Мардоний?… Мардоний?!» Долговязый в один миг очутился на ногах: Клеона нет, сам он уснул… Не случилось ли чего с овцами?
Овцы стояли, опустив голову к траве, и, казалось, тоже дремали.
— Да поди же сюда, Долговязый!
Пастух оглянулся. В густой зеленой листве деревьев он увидел блестящие глаза и черные рожки лесного бога Сильвана. Мышцы на его груди и обнаженных загорелых руках были напряжены: он что-то тащил за собой волоком. Козлиные ноги бога не были видны за кустарником, но по тому, как он ковылял, угадывалось, что вместо ступней у него копыта.
Онемев от изумления и страха, Долговязый смотрел, не двигаясь, как приближается к нему бог леса. Еще шаг, еще… и «Сильван» очутился на солнце. И тогда Долговязый увидел, что на голове его вовсе не рожки, а крутые, словно у новорожденного ягненка, завитки.
— Гефест!
100
Пиния — итальянская сосна с развесистой кроной.