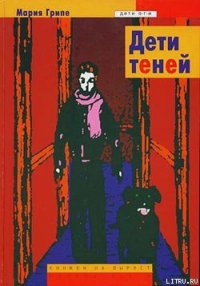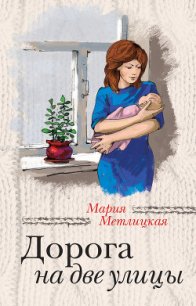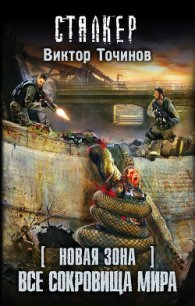Сокровища Королевского замка - Шиповская Мария (бесплатная библиотека электронных книг TXT) 📗

«Хронос» – монументальная статуя работы Якуба Мональди, спасенная из Рыцарского зала.

Фрагмент Рыцарского зала с мраморной статуей «Славы» работы А. Ле Бруна; в глубине вход в Бальный зал. Снимок сделан перед 1939 годом.

Часовня Станислава Августа. Снимок сделан до 1939 года.

Часовня Станислава Августа. Снимок 1941 года.

Вид на западное крыло Замка и башню Зыгмунта после пожара 17 сентября 1939 года.

Замковая площадь со стороны разрушенного немецкой бомбардировкой дома.

Один из залов Замка в Большом дворе. 1941 год. В стенах видны отверстия, просверленные немецкими минерами в 1939 году для закладки динамита.

По улицам Варшавы вместо такси стали курсировать рикши – новая разновидность велосипедных извозчиков.

Лестница в знаменитом «Доме Барычков». Перед войной в этом доме размещались Общество охраны памятников культуры и Музей Старой Варшавы.

Памятник Шопену работы Вацлава Шимановского, установленный в 1926 году, особенно хорош в живом обрамлении деревьев Верхнего Лазенковского парка.

Колонна Зыгмунта – второй после Сирены символ Варшавы, разрушенный, как почти все памятники, гитлеровскими варварами.

Уничтоженный бомбами, пожарами и динамитом район площади Железной Брамы. На заднем плане видны останки башни костела Всех Святых.

Руины Королевского замка, сожженного и разграбленного немецкими оккупантами.

Статуя Христа, сброшенная с костела св. Креста на Краковском предместье.
[1] Только для немцев (нем.).«Номер первый» уехал битком набитый, со всех сторон облепленный людьми. Только передняя площадка и головная часть вагона, предназначенные для немцев, были пусты.
Толпа на остановке ждала. Со стороны Замковой площади подъезжал очередной трамвай, минуту назад он вполз снизу, с улицы Новый Зъязд. Люди бросились к нему, по тотчас же отпрянули, хотя вагон был почти пуст. Оцепенение измученной ожиданием толпы говорило о том, что это трамвай «нулевой» линии, предназначенный исключительно для немцев. Освещенный заходящим солнцем, вагон промелькнул перед глазами Станислава и Петра, как большая, никому не нужная механическая игрушка. На передней площадке неподвижно стоял вожатый, сзади прислонился к дверям кондуктор. В вагоне сидел один?единственный пассажир. Немец в военном мундире. Его изогнутая, наподобие седла, фуражка с высокой тульей четко вырисовывалась на светлом фоне окна, поблескивали знаки отличия на воротнике и на погонах, Железный крест на шее. Офицер брезгливо поглядывал на беспокойную толпу. Рассеянно обвел взглядом дома, пугавшие чернотой выгоревших окон, стены со следами пуль и снарядов, словно меченные оспой, черноглазого оборванного мальчишку, выглянувшего из подворотни.
Со стороны Нового Свята, отчаянно завывая, промчалась закрытая машина гестапо, тотчас свернув на Медовую. Значит, снова кого?то выследили, спешат поймать и отвезти в застенок в аллее Шуха.

На перекрестке Краковского предместья и Медовой, где находился магазин Мейнля и всегда ароматно пахло кофе, появились стайки молодых людей, они смеялись и громко переговаривались, сразу заполонив весь тротуар. Девушки с ярко накрашенными губами несли в руках какие?то свертки. Одна из них напевала: «Vor der Kaserne, vor dem grossen Tor…»[1] У парней на рукавах рыжих гимнастерок виднелись красные повязки с черной свастикой на фоне белого круга, а на высоких, торчавших торчком фуражках – череп со скрещенными костями.
Все перед ними расступались. Черноглазый мальчик в лохмотьях, выглянувший из подворотни, хотел было снова спрятаться. Но слишком поздно.
Самый высокий из идущих по тротуару мужчин, шагавший пружинистым шагом спортсмена, почти незаметным движением протянул руку к висевшей у него на поясе кобуре и, почти не глядя, выстрелил. Он даже не остановился. Пошел дальше не оглянувшись, должно быть, был уверен, что маленькая фигурка в лохмотьях упала на тротуар и застыла в неподвижности. Девушки пискливо хохотали, выражая свое удивление. Полицейский в синем мундире остановился возле убитого.
– Знаешь, – сказал Станислав, – мне как?то приснился памятник Мицкевичу. Вернее, одна лишь голова, словно бы ее оторвало снарядом от туловища. Там, где шея, торчали остроконечные обломки бронзы. Когда мы смотрим отсюда, она кажется небольшой. Но в моем сне она была большая, огромная. И мне казалось, нет, не казалось, во сне я знал это точно, что он все видит бронзовыми глазами. То, что было, и то, что есть. И нас. А рот у него прострелен. Как будто пуля хотела убить слово поэта.
Полицейский стоял над трупом мальчика, покачивая головой. Толпа вокруг них расступалась все больше и больше.
– Слово поэта… Нужно ли оно сегодня кому?нибудь?.. Видишь этот мох? Ему хорошо, – сказал Петр, поглаживая зеленую мшистую подушку, выросшую на нижней каменной части ограды, под старой решеткой. – Живет себе в любой расщелине. Ничего не знает. И не чувствует. Ему неведомы ни страх, ни надежда. Он ничего не почувствует, даже если сам погибнет.
Последние лучи солнца окрасили памятник в розовый цвет.
– Да, но ведь ты человек. Ты сделал выбор. Не случайно. И быть может, Мицкевич тебе помог в этом… – возразил Станислав. – «Ах, эти книжки! Сколько зла, безбожья!» – декламировал он, –
О, юности моей и небо и мученье!
В тех муках исковерканы жестоко
Вот этих крыльев основанья.
И нет в них силы долу устремиться.[2]
А потом, помолчав, добавил:
– Нет! Это был не Рудзик, наверняка не он. Кто?то мне говорил, что его отправили на Восточный фронт…
Оба знали, кого напомнил им высокий, стройный, молодой мужчина с черепом на фуражке. Товарища из их класса, вместе с которым они получали аттестат зрелости незадолго до войны. Рудольф Зымер. Это он твердил Петру в октябре тридцать девятого года, через несколько дней после капитуляции Варшавы: «Парень, у тебя великолепный шанс! Твой дед приехал сюда из Саксонии, так же, как мой из Пруссии. Мы оба принадлежим к нации господ, а не к этому сброду. Не хочешь? Ну скажи, кому помешает, если мы заявим, что мы рейхсдойчи?»[3] Поначалу казалось, что речь идет о невинных вещах. Ну, скажем, о праве с комфортом разъезжать в пустом трамвае, делать покупки в лавке Мейнля, доставать хорошие продукты, иметь удобную квартиру. Все это получила семья Зымеров, превратившись в Зиммеров. А потом с каждым днем возрастало удовольствие от ощущения превосходства над теми, кто слабее, хуже накормлен, менее приспособлен, желание пустить в ход кулак, хлыст, прут. «Долой человеколюбие!» – могли повторять они вслед за Геббельсом. Право носить знак черепа на фуражке казалось им привилегией богов.