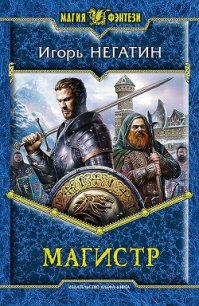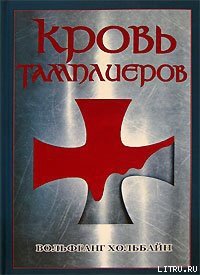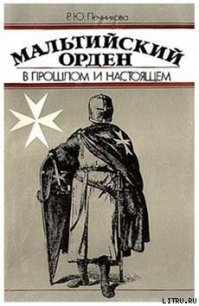Магистр ордена Святого Грааля - Дени Эжен (книга жизни txt, fb2) 📗
И вслух отец Иероним отозвался на эти голоса из своей вечной тьмы:
— Sic, peccavi… [13]
лейб-гвардии Измайловского полка сержант, дворянский сын, 20 лет
«Грешите вы, батюшка, Исидор Гаврилович, — прихохатывала лекарская жена Марфа Мюллер, а сама, чай, не отодвигалась, даже еще потеснее ластилась к нему покатым плечиком. Но на словах иное: — Ох, грешите! Ну можно ль так? На вечер глядя — к чужой жене, когда супруг ее по лекарским делам отбыл в Царское? Грех вам, батюшка!.. А португальского портвейну отчего же не пьете?.. — И все плечиком его, плечиком… Хотя после портвейну да в караул… Но до караула часика два еще, небось?.,»
…Как ни сладок был сей сон, однако при упоминании о карауле мигом выдернулся из него сержант Коростылев. Какие там «часика два», когда он уже в карауле! И, стоя в том карауле, — надо ж! — спит с ружьем на плече!. Да где! Перед самым дворцом!.. А все, видать, этот портвейн ее проклятущий португальский! Разморило!..
То, что у них с Мюллершей после портвейну было — оно, может, грех и не столь велик, не он, Коростылев, у ней такой первый, вся их рота, чай, перебывала, а вот уснуть в карауле с ружьем — то и не грех даже, а бесчестие! И всему полку бесчестие! Да тут просто и словами-то не обозначить, что это такое — в карауле уснуть!..
Оно, правда, в нынешние времена кому как выходит. Вон, прошлым годом (о том уже весь Санкт-Петербург знает) уснул тоже один караульный — неизвестно, с портвейну или так, с недосыпу. И надо же — его величество тут как тут: «Сгною! В Сибирь! Под шпицрутены!..»
А караульный-то, не будь дурак, на императора штыком вперед: «Не подходи!.. Никак покудова не можете в Сибирь, ваше императорское!..» — «Это отчего ж не могу?» — «А оттого, ваше императорское, что, ежель караульный в карауле, никто его никуда не может, покудова не сменили, что по уставу лишь начальнику караула дозволительно… Там дальше можно и в Сибирь. А покудова назад! Не подходить!»
И никой ему, шельме, Сибири, никаких шпицрутенов. «Ничего не скажу, устав и службу знает», — только-то и молвил государь.
Сказывают, после случая того еще и в капралы высочайшим повелением произвели.
Но за того караульного, видать, даже не святые угодники на небесах молились, тут повыше бери. С иных и не за такие дела шкуру заживо спускали. Нет, ангел твой небесный, должно быть, воспомог тебе, Коростылев, уберег от беды, отогнал от тебя злокозненного Морфея.
Холодало однако же. Еще и октябрь не наступил, а морозцем прихватывало икры ног, не прикрытые кургузой шинелишкой. Хоть ветра не было — и то слава богу. Потому величавая река спокойно несла свои черные воды, хотя была уже настолько полна ими, что вот-вот могла выйти из берегов.
«Как бы опять потопа не случилось, — подумал караульный Коростылев и не по уставу поднял воротник шинели — укрыть неживые от мороза уши. — Вполне может статься. Как раз и бывает по октябрю…»
…А Мюллерша знай пришептывала: «Ты ушки-то свои береги, Исидор Гаврилович, хорошенькие у тебя ушки — махонькие, точно у младенчика…» И дышала при этом жарко-жарко, и постанывала изредка. А уж грех не грех — пускай там в Святейшем Синоде разбираются, если что прознают…
…только по щекам не надо, ваше императорское, при всем строе, а коли в капралы — так это с нашим превеликим, ваше императорское, и коли чего еще — так мы тоже с превеликим, хоть куда, хоть в самую Сибирь, не будите только, ваше императорское, жуть как Морфей проклятущий повязал…
А Нева вершок за вершком поднимала свои пока еще неспешные воды, словно тоже спала, во сне сама не ведая, пощадит она на сей раз этот холодный каменный град, своевольно разместившийся в ее болотистых владениях, или вздыбится всеми своими водами поутру и заберет его в себя вместе со всеми людьми, домами, дворцами, чтобы он уже в небытии вечно досматривал свои суетные сны.
Глава II
Приготовления.
Le defile des comediens [14]
Поутру, затемно граф Литта, как и было договорено накануне, ожидал их у себя.
Первым явился молодой барон фон Штраубе, граф, однако, предложил дождаться остальных орденских братьев и более ни о чем говорить с ним до поры не стал, куда-то удалился, оставив его в одиночестве.
Фон Штраубе оглядел залу и сразу отметил бедность обстановки — довольно грубой работы стол, простые скамьи вместо кресел, канделябры всего на две-три свечи, чтобы лишних не жечь. Вообще-то граф Литта, несмотря на свой монашеский сан, любил жить в окружении роскоши, и потому в простоте этой залы фон Штраубе усмотрел не скаредность графа, а выверенный им замысел: тот явно желал показать монахам-рыцарям, в какой скудости пребывает орден в сии далеко не лучшие для него времена.
Впрочем, то, что висело на стенах, составляло истинное богатство, но распознать его цену могли бы только люди, осведомленные в подобных вещах. Вроде бы заржавевшая железка, а в действительности меч Меровингов, его, фон Штраубе, далеких предков; этот — быть может, единственный сохранившийся на свете — редкость столь великая, что, пожалуй, уже и не имела цены.
А это кольчуга и шлем Людовика Святого — дар, принесенный монархом ордену еще на Палестинской земле.
Ну а латы Ричарда Львиное Сердце многим ли дано было узреть из живущих ныне в этом мире?
А про этот позеленевший медный наконечник кто бы знал, что он с копья самого царя Давида? Тоже привезенная из Палестины драгоценная реликвия ордена.
И другие кольчуги, доспехи, шлемы, за всем этим история бранной славы и шествия христианства по земле.
Вывешено было напоказ (фон Штраубе и это сразу уразумел) тоже не зря: посвященным должно было напомнить о прошлых заслугах и могуществе столь почитаемого некогда во всем христианском мире ордена.
На другой стене висели куда более сверкающие предметы оружия, однако воистину не все, что сверкает, с непременностью драгоценно. Всем этим начищенным до блеска кирасам, латам, палашам, наколенникам, барон знал, от силы лет сто пятьдесят, а то и меньше, так что они бы подошли скорее для украшения стен какого-нибудь трактира в рыцарском стиле, чем для гостиной комтура одного из древнейших рыцарских орденов.
— Сейчас все будут в сборе, — сказал граф Литта, спускаясь в залу по боковой лестнице — видимо, наблюдал за улицей с верхнего этажа.
И вправду после его слов дверь открылась. Первым молча вступил отец Иероним. Лицо его было строго, спина пряма. Слишком пряма для девяностолетнего старца. И слишком непреклонно пряма для монаха, явившегося к самому высокому после магистра иерарху ордена.
Тотчас вслед за ним появились орденские браться Жак и Пьер — они-то, видимо, и привезли отца Иеронима, иначе как бы нашел дорогу сюда слепец? Оба, войдя, приветствовали комтура какими-то завитушистыми поклонами, более пригодными для приветствия какого-нибудь высокого светского вельможи.
Граф Литта слегка покривился, но делать внушение им не стал, ибо тем временем отец Иероним наконец как-то нащупал своими бельмами и его, графа, и фон Штраубе. Барон всегда несколько робел под взглядом этих белых слепых глаз, казалось умевших смотреть в самую душу. На сей раз, однако, слепец лишь прошелся по нему бельмами, а вот на Литте их позадержал, и фон Штраубе почувствовал, что при этом даже комтура охватила робость, ибо так сурово не могут смотреть никакие зрячие глаза.
Явно приложив к тому усилие, граф отвел взгляд от этих бельм и сказал:
— Прошу рассаживаться, братья, времени у нас не много, а разговор предстоит важный.
Сам он первым уселся за стол и сделал знак братьям Пьеру и Жаку, чтобы те усадили отца Иеронима сбоку от него, но тот, отстранив их помощь, сам, точно зрячий, избрал для себя место, уселся напротив комтура и снова вперил в него свои бельма. Единственное, что смог сделать комтур, дабы защититься от них, это, изобразив тягостную муку головной боли, прикрыть глаза, как забралом, рукой. Между тем другой рукой он успел взять за плечо фон Штраубе и усадить его с собой рядом справа.