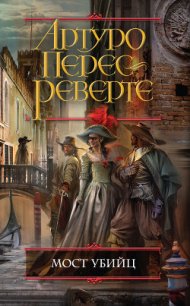Чистая кровь - Перес-Реверте Артуро (книги без регистрации TXT) 📗
– Такая жалость, капитан, что вы не видели его лицо в тот миг, когда я протянул ему зеленую книжицу. – Голос поэта звучал устало; он еще не снял с себя насквозь пропыленного дорожного платья, не отстегнул окровавленные шпоры. – Луис де Алькесар стал белее бумаг, которые держал в руках, а потом побагровел так, что я даже испугался: не хватит ли его сейчас ненароком удар… Но дело было не в нем, а в Иньиго, и потому я придвинулся почти вплотную и сказал нетерпеливо: «Времени у нас с вами нет, медлить не приходится. Если не спасете мальчика, вы – человек конченный»… И он не стал спорить. Этот негодяй увидел свою будущность так же ясно, как мы представляем себе неизбежность встречи со Всевышним.
Все так и было, добавлю я от себя. Прежде чем монах успел произнести мое имя, Алькесар вылетел из ложи скорей, чем пуля из мушкетного ствола – подобное проворство объясняет его успехи на поприще секретарства, – подскочил к ошеломленному падре Эмилио и вполголоса обменялся с ним несколькими словами. На лице доминиканца появилось изумление, потом ярость, потом горчайшая досада; горящие мстительным огнем глаза готовы были, казалось, испепелить дона Франсиско, но тому, утомленному дорогой, снедаемому беспокойством за мою судьбу – ведь опасность совсем еще не миновала, – исполненному решимости идти до конца, в эту минуту было в высокой степени наплевать, кто и как на него смотрит. И вот, вытерши платком холодную испарину со лба, снова побледнев так, что казалось: добросовестный цирюльник только что отворил ему кровь, – Алькесар медленно вернулся туда, где поджидал его поэт. Из-за его плеча видел Кеведо, как, привстав со скамьи, отведенной инквизиторам, падре Эмилио, которого от ярости и разочарования трясло хуже, чем в лихорадке, подозвал к себе монаха и отдал ему краткое, почтительно выслушанное приказание. Тот взял бумагу с приговором и, вместо того, чтобы прочесть, отложил в сторонку, намереваясь, вероятно, засунуть ее в самый долгий ящик мадридской инквизиции.
Еще один костер прогорел и с треском осел, взметнув в черное небо сноп искр, осветивших на миг фигуры поэта и капитана. Диего Алатристе был неподвижен и не сводил глаз с пламени. На осунувшемся лице – день выдался трудный, да и бок побаливал, хоть рана оказалась несерьезной – особенно дерзко торчали густые усы и орлиный нос.
– Как жаль, – пробормотал дон Франсиско, – что я прискакал поздно: можно было бы спасти и Эльвиру…
Он указывал на ближайший костер, и было видно, что горестная судьба валенсианской послушницы томит его стыдом. Нет, не за себя, не за капитана, а за все то, что погубило несчастную девушку, ее отца и братьев. Он стыдился, быть может, за страну, в которой ему довелось жить, – беспощадно-жестокую по отношению к ближнему, сияющую ослепительным блеском бесплодного величия, вялую и никчемную в повседневье и обыденности; и ни его стоицизм, ни порядочность, ни искреннее религиозное чувство не могли помочь ему и утешить его. Так уж повелось от сотворения мира – если у тебя светлый ум, а ты при этом – испанец, суждены тебе великая горечь и малая надежда.
– Впрочем, на все воля Божья, – прибавил поэт.
Диего Алатристе на сей счет предпочел не высказываться. Божья воля или дьявольская, он продолжал хранить молчание, всматриваясь в костры и темневшие на зловещем фоне зарева силуэты стражников и зевак. Он до сих пор не собрался проведать меня, сколько бы ни твердили ему Кеведо, а потом и Мартин Салданья, что теперь опасаться нечего. Все было обтяпано так быстро и отчетливо, что пока не обнаружили даже наемника, убитого при входе в вонючий проулок. Не было сведений и о судьбе подколотого Гвальтерио Малатесты. И капитан, перевязав в аптеке Фадрике-Кривого свою рану, отправился в сопровождении Кеведо к месту казни, и оставался там до тех пор, пока Эльвира не превратилась в кучку обугленных костей и золы. Алатристе показалось на миг, что в толпе мелькнул ее старший брат – единственный из всей уничтоженной семьи, кто сумел уцелеть, – однако было так темно и многолюдно, что закутанная в плащ фигура Висенте де ла Круса, если, конечно, это был он, а не его призрак, тотчас скрылась из виду.
– Нет, – неожиданно произнес Алатристе.
Он так долго молчал, что дон Франсиско даже не понял, что это – ответ на его слова, и с недоумением воззрился на друга, пытаясь понять, к чему же относится это «нет». Но капитан невозмутимо глядел на костры и, лишь выдержав еще одну бесконечную паузу, медленно обернулся к поэту:
– Бог не имеет к этому ни малейшего отношения.
В стеклах очков Кеведо метались отблески пламени, а светлые глаза капитана казались двумя озерцами, затянутыми льдом. Тени и красноватые сполохи догорающих костров играли на его мрачном лице, остром, как лезвие заточенного клинка.
Я делал вид, что сплю. Каридад накормила меня ужином, искупала в глиняном тазу и теперь сидела у изголовья моей постели, оберегала мой сон, штопая при свече капитанову рубашку. Я лежал с закрытыми глазами, наслаждаясь теплом и уютом и пребывал в блаженной дремоте, помогавшей не отвечать ни на какие вопросы и не думать о том, что мне пришлось пережить, ибо при воспоминании о перенесенных мною мытарствах – чего стоит одно только санбенито! – меня начинало буквально корчить от стыда. Тепло простынь, близость добросердечной Каридад, сознание того, что я – опять у друзей, и, самое главное – возможность лежать вот так, с закрытыми глазами, покуда мир вертится, напрочь позабыв обо мне, – погружало меня в блаженное забытье, которое сменялось тихим ликованием при мысли, что инквизиторы так и не сумели ни выбить, ни вытянуть из меня ни единого слова против капитана Алатристе.
И, заслышав на лестнице его шаги, я не открыл глаза, и веки мои были по-прежнему сомкнуты, когда Каридад, выронив из рук шитье, бросилась ему на шею. Я слышал их приглушенные голоса, звуки сочных поцелуев, слабые возражения капитана, а потом – негромкий стук притворенной двери и скрип ступеней, по которым спускались мой хозяин и трактирщица. Довольно долго я оставался один, но вот вновь заскрипели половицы под сапогами Алатристе – он подошел и стал у кровати.
Я совсем собрался было открыть глаза, но почему-то медлил. Я знал, что капитан видел меня на площади среди осужденных и догадывался о позоре, терзавшем меня. Не забыл он, вероятно, и что я нарушил его строгий приказ и, будто перепелка – в силок, угодил в ловушку, подстроенную нам у монастыря бенедиктинок. Короче говоря, не находил я в себе довольно сил, чтобы ответить на его вопросы или упреки, или хотя бы просто выдержать его безмолвный взгляд. И потому лежал неподвижно, дышал ровно и глубоко, притворялся спящим.
Молчание было безмерно долгим, и ни единый звук не нарушал его. Несомненно, Алатристе рассматривал меня при свете оставленного Каридад огарка. В тот миг, когда я, обманутый этой полнейшей тишиной, засомневался, здесь ли еще капитан, я вдруг почувствовал прикосновение его руки: загрубелая ладонь с неожиданной, непривычной лаской коснулась моего лба. Дотронулась, замерла на мгновение – и вдруг резко отдернулась. Зазвучали удаляющиеся шаги, заскрипела дверца поставца, звякнуло о край стакана горлышко бутылки, проехались по полу ножки стула.
Я чуть приоткрыл глаза. В неверном и скудном свете мне предстал капитан – сняв колет, отстегнув шпагу, он сидел у стола и пил. Раз и другой булькнуло вино, выливаясь из бутылки в стакан, и Алатристе медленно, сосредоточенно, так, будто все прочие дела в этом мире были уже переделаны, осушил его. Желтоватый свет воскового огарка озарял его белую сорочку, коротко остриженную голову, торчащие солдатские усы. Капитан не произносил ни звука и не делал ни единого лишнего движения – лишь методично наполнял и подносил ко рту стакан. Окно было открыто, и в сумраке угадывались очертания крыш и печных труб, а над ними висела единственная звезда – холодная, безмолвная, недвижная. Алатристе упорно созерцал тьму, или пустоту, или проплывавшие в ней призраки, порожденные его собственным воображением. Мне хорошо был знаком тот ледяной отсутствующий взгляд, который появлялся у капитана всякий раз, как вино оказывало свое действие. На боку у него очень медленно набухала кровью повязка, расползалось по белой сорочке влажное красное пятно. Капитан Диего Алатристе казался таким же отчужденно-одиноким, как эта мерцавшая на темном небосводе звезда.