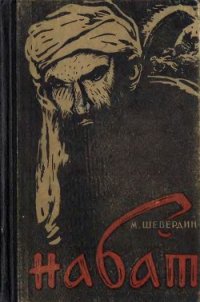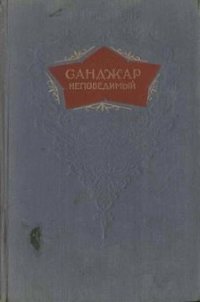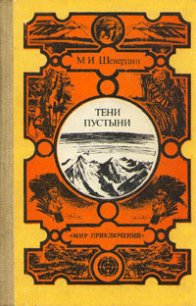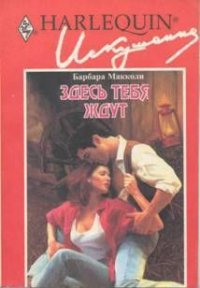Набат. Книга первая: Паутина - Шевердин Михаил Иванович (читать полные книги онлайн бесплатно .txt) 📗
Жаннат оглянулась. По плоской крыше со стороны михманханы шел вооруженный человек и показывал на нее рукой. Она заглянула вниз и ахнула. Весь двор кишел всадниками и пешими. В свете утреннего солнца поблескивали винтовки.
— Слезай! — кричали снизу. — Все равно подстрелим. Слезай!
Машинально Жаннат встала на верхнюю ступеньку лестницы. Над головой ее выросла мохнатая шапка басмача, шедшего по крыше. Она понимала, что ждет ее внизу, и шаг делался все медленней, медленней. Старые доски лестницы рассохлись, скрип каждой ступеньки отдавался стоном в ее душе.
— Не спешишь, — захрипел голос, — умирать, видно, неохота, а?
Одна рука крепко вцепилась ей в плечо. Другой рукой человек, вынырнувший снизу, шарил за поясом, дыша ей громко прямо в ухо.
Кто-то со двора крикнул:
— Эй, Хамид, что ты там возишься?
— Сейчас.
— Тащи ее сюда, посмотрим, какая она.
— Нечего смотреть, кончай! Кто-то по дороге едет.
Вывернувшись и отчаянно взвизгнув, Жаннат скользнула мимо басмача, вскочила на две-три ступеньки, каблуком сапога ударила его по голове.
Басмач потерял равновесие и с грохотом, пересчитывая всей своей грузной тушей ступеньки, рухнул вниз.
Жаннат выскочила на балахану. Мужество вернулось к ней. Она, слабенькая, маленькая, поборола огромного, здорового мужчину. Голубая полоса света лилась снаружи. Жаннат подбежала к двери. В лицо ей пахнуло свежестью. Собственно говоря, дверь из балаханы никуда не вела. Под ногами Жаннат и перед ней густо переплелись ветви грецкого ореха. Ни минуты не колеблясь, молодая женщина схватилась за толстый сук, подтянулась и, цепляясь ногами и руками, забралась в ветви огромного дерева. С живостью обезьяны она спустилась на землю, пробежала через пустынный, заброшенный сад, потом какой-то дворик. Где-то далеко раздавались крики.
Через минуту Жаннат оказалась на женской половине чьего-то зажиточного дома. Присев на глиняном возвышении, она горько расплакалась.
Глава четырнадцатая
Идут маддахи!
Волки воют у ворот — к войне.
Из дурного дома — дурной дым.
Базар жил своей жизнью, стонал тысячами голосов. «Сдобные, сдобные, тают на языке!» — вопил хлебопек, проталкиваясь в толпе с горой грубых ячменных лепешек в плоской корзине на голове. «Готов, готов, совсем готов!» — гремя о борт казана железной шумовкой, зазывал посетителей владелец харчевни, тут же, издалека, показывая, насколько плов его уже поспел. «Готов! Готов!» — вторил ему с противоположной стороны улочки шашлычник, и его круглая распаренная физиономия вертелась в дыму и пару. «Горячие кульчан-озоранки! Сдобные! Кто какие хочет. Горячие с тмином, с кунжутом, с маком. Горячие! Горячие!» — проталкивался через толпу лепешечник. «Береги зубы! Мне дела нет до твоих зубов!» — звенел дискантом продавец рохат-и-джонон (отдыха души), расставляя на подносе медные тарелочки с наскобленным льдом и снегом, залитые фруктовым медом — бекмесом, с трудом находя в эти осенние дни любителей сластей, действительно отважно рискующих зубами и здоровьем. «Голоб, голоб!» — нес на деревянной доске в чашках кислое молоко оборванец. «Пошт! Пошт! Прочь! Прочь с дороги! Подохни ты, молодой!» — орал совсем охрипшим голосом арбакеш, встав на оглобли и щедро прохаживаясь плетью по спинам и головам базарных завсегдатаев. «Подари ей флакончик, и она откроет тебе объятия!» — сладко стонал аттарчи — торговец парфюмерным товаром.
Над морем голов плыли, покачиваясь на спинах дромадеров, казахи из Кызылкумов в белых с черным шапках и вносили свою долю шума в рев базарный, перекликаясь дикими протяжными голосами, совсем как у себя в пустыне: «Эге-гей, джолдос!» Что-то выкрикивали чуббозы — фокусники на высоких ходулях. Визжали и ржали подравшиеся лошади у входа в караван-сарай.
Внезапно со всех сторон понеслись трубные крики ишаков. Ага, значит, полдень наступил.
Скрипели пронзительно арбы, громко дребезжа своими колесами по мостовой. Тянуло жаренным в кунжутном масле луком, мокрой глиной дувалов и стен домов, дымом, падалью.
«Жжет, как перец… обжигает, как огонь!» — расхваливал торговец жареной рыбой свой товар, изрядно обветренный, пропыленный. «А вот самса, а вот самса! Что там поцелуй девственницы! Рай увидишь!» И хоть все знали, что когда раскусишь подрумяненный пухлый пирожок, то в рот хлынет горячий наперченный лук и ничтожное количество мяса, но все увлеченные красноречием торговца и веселой его ухмыляющейся рожей тянули к нему свои руки.
— Хоо! Хо…ооо! — вдруг возник вопль, подавляя все прочие шумы бухарского базара. Вопль, совсем немыслимый, дикий, странный, возник и понесся в серой дымке слепого дня над плоскокрышей Бухарой… И сразу же, меся грязь, расступилась толпа, кинулись в сторону лепешечники и нищие. Побежали, придерживая рукой на лице чачван, старушки. «Хо-оо!» — вопили, кричали, гундосили и стонали грязные, с никогда не мытыми лицами маддахи, волосатые дервиши. «Хо-ооо!» — звенели воплем базар и площадь.
В одном чарбекирский ишан остался верен данному Энверу слову, вернее, если переводить на более ему близкий язык торговых операций, он аккуратно выполнил все условия, установленные кодексом мусульманского права насчет «купли и продажи». Он купил должность шейх-уль-ислама и, если так можно выразиться, сейчас приступил к выплатам по принятым обязательствам.
Побежали, закричали, загундосили в длинных одеяниях, в высоких шапках каландары по улочкам, переулкам, проездам, переходам, а больше всего они толкались под величественными куполами Ток и Заргарон, Тельпек фурушон, на площади бывшего эмирского арка, под сводами большой мечети на Регистане, на Чорсу и у подернутого зеленью многоступенчатого Лябихауза. Группами по пять, по десять человек выскакивали они из рассадника насекомых и заразных болезней — каландарханы, что притиснулась грудой полуразвалившихся глиняных хибар к Мазар-и-шерифским воротам. Полезли они, черные, мокрые, страшные, со дворов караван-сараев. Сам бобо-и-каландар — староста монахов — во власянице выбрался из дервишского убежища близ Ширгаронских ворот. Потрясая посохом в виде змеи, который, по преданию, достался ему от самого еврейского пророка Моисея, он загундосил притчу, и два его помощника после каждой фразы дико и протяжно кричали: «Хоо-оо!» — да так жалостливо, так неистово, что по коже озноб пробегал и тоска схватывала сердце.
Лавочники выглядывали на улицу. Ясноглазые девушки чуть высовывали свежие личики в приоткрытые калитки и в полном изумлении шептали: «Ой, что бы это значило. Сам святой староста каландаров вышел из добровольного заключения».
Вся Бухара знала, что, с тех пор как восстал народ и эмир сбежал из своего арка, подобрав полы золотого халата, бобо-и-каландар дал торжественный обет не покидать своего жилища, пока не низринутся на проклятых большевиков ангелы божьи.
Или действительно ангелы снизошли с небес? Нет, все так же медленно ползут откуда-то с севера, из Кызылкумов, похожие на растрепанные шерстяные кошмы тучи, изредка роняя в уличную грязь холодные капли осеннего дождя. А бобо-и-каландар все шагает и шагает, нараспев возглашая страшные, тревожные слова, сопровождаемые диким, душу леденящим «хо-оо!».
Шли и шли по улицам дервиши, каландары, маддахи. Шли и вопили:
«О газии, вступайте на путь джихада, хо-оо!»
«О совершившие круг около черного камня священной каабы, беритесь за рукоятку меча, хо-оо!»
«Не произноси слова неверия, ибо станешь ты вероотступником. Хо-оо!»
«Сыны человеческие, совершенствуйте душу! Хоо!»
Дехкане, ехавшие из пригородов, слезали с ишаков и, прижавшись к сырым дувалам, с удивлением, смешанным с испугом, спрашивали друг друга: «Что случилось?»
Рабочие, ремесленники недовольно восклицали; «Опять вшивые патлатые вылезли, как при эмире», — и, махнув рукой, бежали на работу.