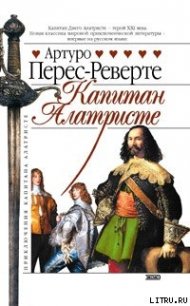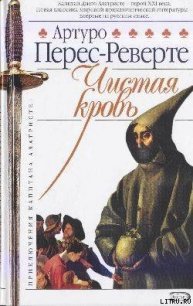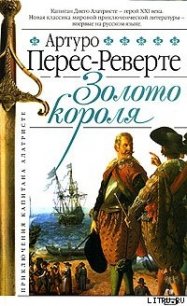Капитан Алатристе. Чистая кровь. Испанская ярость. Золото короля (сборник) - Перес-Реверте Артуро (первая книга TXT) 📗
– Вижу, – произнес он. – Здесь имеется рекомендательное письмо старого графа де Гуадальмедины и собственноручное ходатайство самого генерала Амбросьо де Спинолы о назначении вам восьми эскудо пенсиона в признание ваших боевых заслуг и отваги, проявленной перед лицом неприятеля… Получили?
– Нет. Покуда прошение шло по канцеляриям, стараниями всей этой секретарской швали сумма похудела вдвое, но и четырех эскудо я пока не видал.
Оливарес понимающе покивал, словно и его обходили наградами, арендами и пенсиями или, наоборот, одобряя рачительность секретарей и писарей, сберегающих казенные средства. Алатристе обратил внимание, что он листает бумаги со сноровкой прирожденного чиновника.
– Из армии был уволен в связи с тяжелым ранением при Флёрюсе, – продолжал министр и оглядел грязную окровавленную повязку на лбу капитана. – Да у вас, я вижу, прямо какая-то склонность к получению ран.
– И – к нанесению оных.
Он выпрямился и закрутил ус. Никто на всем белом свете, включая и всемогущего министра, способного в любую минуту уничтожить его, не имел права подшучивать над ранами Диего Алатристе. Оливарес с любопытством взглянул капитану в глаза, где вспыхнул опасный огонек, и вновь углубился в бумаги.
– Похоже на то, – заметил он. – Однако, судя по отзывам, в мирной жизни вы вели себя не так образцово, как на войне… Тут упоминается драка в Неаполе, повлекшая за собой смертельный исход… Ага! Во время подавления восстания морисков [17] в Валенсии вы отказались выполнить приказ. – Оливарес нахмурился. – Вам что же – не пришелся по вкусу королевский эдикт об их изгнании?
Прежде чем ответить, Алатристе немного помолчал.
– Я – солдат, – произнес он наконец, – а не мясник.
– Мне казалось, что вы прежде всего – верный слуга нашего государя.
– Так оно и есть. Я служу королю лучше, нежели Господу Богу, ибо Его десять заповедей нарушал постоянно, а королевские приказы до того случая – ни разу.
Оливарес вскинул бровь:
– Мне докладывали, что там, в Валенсии, наши полки покрыли себя славой…
– Вас ввели в заблуждение. Когда грабишь дома, насилуешь женщин и рубишь головы безоружным крестьянам, покрываешь себя не славой, а позором.
Оливарес слушал его с непроницаемым видом.
– Они не желали признавать истинную веру, – веско заметил он. – И отречься от Магомета.
Капитан пожал плечами:
– Очень может быть. И поэтому их надо убивать? Я не желал.
– Вот как? – с деланым удивлением сказал министр. – А убивать по заказу и за плату вам милее?
– Я не убиваю ни детей, ни стариков.
– Ну, ясно. И стало быть, вы покинули свой полк и поступили в Неаполе на королевский галерный флот?
– Если уж надо уничтожать неверных, то пусть это будут настоящие мусульмане – турки, которые умеют защищаться.
Оливарес некоторое время разглядывал его, не произнося ни слова, потом вновь принялся листать бумаги. Видно было, что последние слова Алатристе заставили его призадуматься.
– Как бы то ни было, за вас ручаются весьма достойные люди. Вот, скажем, молодой граф де Гуадальмедина. Или дон Франсиско де Кеведо, который вчера с таким пылом спрягал глаголы в действительном залоге. Впрочем, рекомендации этого стихотворца могут принести его друзьям не только пользу, но и вред – все зависит от того, благоволит ли к нему Фортуна или отвратила от него свой лик. – Министр выдержал длинную и многозначительную паузу. – Или вот наш свежеиспеченный герцог Бекингем… Он считает себя в долгу перед вами… – И вновь надолго замолчал. – Или принц Уэльский…
Алатристе, не меняясь в лице, пожал плечами:
– С ними я не знаком. Но вчера эти джентльмены более чем убедительно доказали, что долг – истинный или воображаемый – платежом красен.
Оливарес медленно покачал головой и с усталым вздохом ответил:
– Да нет… Не далее как сегодня утром принц Уэльский снова интересовался вами и вашей судьбой. Даже его величество, который продолжает недоумевать по поводу случившегося, желает быть в курсе дела… – Он резко отбросил в сторону папку. – Неприятного дела… И очень деликатного.
Он смотрел на Алатристе снизу вверх так, словно спрашивал себя, что же с ним делать.
– Какая жалость, что пятеро головорезов, которые вчера набросились на вас в театре, так скверно знают свое ремесло. Но тот, кто их нанял, поступил правильно… В определенном смысле вопрос был бы решен.
– У вашей жалости – ядовитое жало.
Взгляд Оливареса изменился – стал жестким и непроницаемым.
– А вот скажите-ка мне, правду ль говорят, будто несколько дней назад вы спасли жизнь некоему британскому путешественнику, которого ваш напарник собирался прикончить?
«Барабанщики! Бей тревогу! В ружье! Становись! Разберись!» – понеслось в голове капитана. Подобный оборот разговора чреват бо́льшими опасностями, нежели ночная атака голландцев на беспечно спящий бивуак, и выводит прямехонько на дорогу, в конечной точке которой покачивается хорошо намыленная петля. Ломаного гроша не дал бы сейчас за свою жизнь Диего Алатристе.
– Виноват, я ничего подобного не припомню.
– А лучше было бы припомнить.
Капитан, во-первых, издавна привык выслушивать угрозы, а во-вторых, уже свыкся с мыслью, что из этой переделки ему не выбраться. И потому остался невозмутим, что вовсе не помешало ему предпринять попытку к спасению, облеченную в такие слова:
– Я, право, не знаю, кому я спас жизнь, – промолвил он после недолгого раздумья. – Но вот что помню, то помню: однажды давали мне некое поручение и главный заказчик сказал, что надо, мол, исхитриться и никого не убить.
– Да что вы говорите? Так и сказал?
– Этими самыми словами.
Капитану в этот миг показалось, что на него уставились не глаза, а два ружейных дула.
– И кто же такой этот «главный»? – со зловещей мягкостью осведомился Оливарес.
Алатристе глазом не моргнул:
– Понятия не имею. Он был под маской.
Теперь Оливарес взглянул на него с новым интересом:
– Но если таковы были приказы, как же ваш сообщник осмелился пойти дальше?
– Я не знаю, какого сообщника вы имеете в виду. Но потом, когда тот, кого я считал главным, удалился, другие люди отдали мне другие приказы.
– Другие? – Министра, кажется, очень заинтересовало множественное число. – Клянусь пятью язвами Христа, мне до смерти хочется узнать, как их звали. Или хотя бы как они выглядели.
– Боюсь, что это невозможно. Вы ведь, должно быть, уже заметили: память у меня просто дырявая. Да и потом – маски…
Оливарес стукнул кулаком по столу, якобы потеряв терпение. Но Алатристе мог бы ручаться, что смотрел он на него скорее одобрительно, нежели угрожающе. И явно при этом что-то обдумывал.
– Надоело мне слушать басни про вашу дырявую память! Я вас предупреждаю: в моем распоряжении есть мастера, которые так ее заштукуют, что будет как новая!
– Сударь, вы меня очень обяжете, если вглядитесь в меня повнимательней.
Оливарес, который и так не сводил глаз с Алатристе, резко сдвинул брови. Он изменился в лице: был и раздосадован, и сбит с толку. Капитан решил, что вот сейчас, пожалуй, он вызовет стражу и прикажет без церемоний и формальностей вздернуть несговорчивого собеседника. Однако министр молчал и не шевелился, уставившись на капитана. Потом, вероятно что-то рассмотрев в очертаниях крутого подбородка, в ледяных зеленовато-голубых глазах, не моргая выдерживавших его взгляд, решил признать его правоту.
– Может быть, так оно и есть, – кивнул он. – Может, вы и в самом деле из породы забывчивых. Или немых.
Еще мгновение Оливарес размышлял, перебирая бумаги, и наконец сказал:
– Мне надо кое-что выяснить. Соблаговолите подождать еще немного.
Он приподнялся и, дотянувшись до свисавшего с потолка шнура, дернул за него один раз. Затем вновь уселся за стол и больше уже не обращал на капитана никакого внимания.
Человек, поспешивший явиться на зов Оливареса, сразу показался Алатристе знакомым, а когда он заговорил, исчезли и последние сомнения. Черт побери, подумал он, встреча старых друзей: не хватает только падре Эмилио Боканегры да рябого итальянца – и вся капелла была бы в сборе. У вошедшего была круглая, почти совсем лысая голова – лишь на темени в беспорядке торчали редкие седоватые пряди. Столь же скудна была и прочая растительность – спускавшиеся ниже ушей бакенбарды, узкая бородка, жиденькие, но подвитые усы. Щеки и крупный нос – в красных прожилках. Ни строгий черный наряд, ни даже вышитый на груди крест ордена Калатравы не могли придать его наружности ни значительности, ни благообразия – этому противились несвежий, плохо накрахмаленный круглый воротник, чернильные пятна на руках, придававшие ему сходство с каким-то захудалым канцеляристом и никак не вязавшиеся с массивным золотым перстнем на левом мизинце. Однако живые глаза светились злым умом и волей, а левая бровь, приподнятая будто в вечном ироническом недоумении, красноречиво свидетельствовала о хитрости и изворотливости. Удивленное выражение, появившееся на его лице при виде Диего Алатристе, тотчас сменилось на холодно-пренебрежительное.