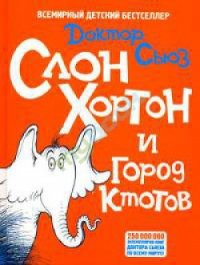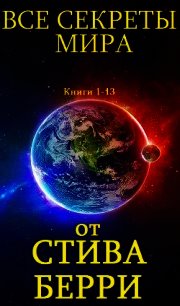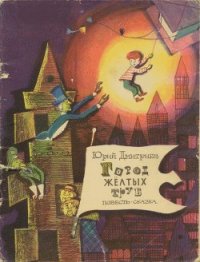Таинственный доктор - Дюма Александр (книги без сокращений .txt) 📗

XX. ГОСПОЖА ЖОРЖ ДАНТОН И ГОСПОЖА КАМИЛЛ ДЕМУЛЕН
Как мы помним, Жак Мере намеревался сразу по прибытии в Париж отправиться повидать своих друзей Дантона и Демулена, однако отложил эти визиты из-за свершившейся у него под окном казни.
Всю ночь доктора преследовали кошмары: он видел бледное и окровавленное лицо Лапорта, его седые волосы в руке палача, доставал, точно наяву, из сумки ланцет — и наутро встал совсем разбитый. Не упади его взор на фасад дворца Тюильри, изрешеченный пулями парижан и залитый кровью швейцарцев, он бы наверняка решил, что все случившееся накануне вечером привиделось ему в дурном сне.
К тому же гильотина по-прежнему высилась посреди площади, и группы любопытных глазели на нее, пересказывая друг другу неслыханные обстоятельства, сопровождавшие казнь Лапорта.
В девять утра доктору доложили, что какой-то господин в черном, одетый по моде прежнего режима, желает поговорить с ним.
Жак Мере осведомился об имени гостя, но тот отказался назвать себя и передал через слугу, что он приходится сыном тому несчастному, которого доктор тщетно пытался возвратить к жизни накануне.
Доктор сразу понял, что человек, желающий его увидеть, — сын Сансона, унаследовавший после смерти отца титул господина Парижского, и приказал провести гостя к себе.
Действительно, он не ошибся.
— Сударь, — сказал Жаку Мере Сансон, — я понимаю, что мне не пристало докучать вам, пусть даже из желания выразить благодарность, но наш первый помощник, Легро, рассказал мне, с каким усердием вы пытались вернуть отца к жизни; мы живем очень замкнуто, и чужим нет доступа в наш семейный круг, но тем сильнее связующая нас любовь. Я обожал отца, сударь…
Тут на глаза Сансона-младшего навернулись слезы.
— Поэтому, — продолжал он, — я счел своим долгом прийти к вам, чтобы сказать: «Сударь, я никогда не забуду вашего человеколюбия; вы можете счесть мое поведение нескромным, даже неприличным, но я готов на все, лишь бы вы не заподозрили меня в неблагодарности и в равнодушии к памяти отца. Не знаю, смогу ли я когда-либо и в чем-либо быть вам полезным, но будьте уверены, сударь, что я, не задумываясь, отдам свою жизнь для спасения вашей, если обстоятельства того потребуют».
— Сударь, — отвечал Жак Мере, — поверьте, я рад видеть вас; вчера я имел удовольствие выпить в обществе вашего отца стакан испанского вина за отмену смертной казни; я сам пригласил господина Сансона ко мне: во-первых, чтобы избавить его от необходимости мокнуть под проливным дождем, а во-вторых, для того чтобы задать ему один сугубо специальный вопрос; впрочем, беседа наша оказалась столь увлекательной, что я забыл о ее цели.
— Задайте ваш вопрос мне, сударь, — подхватил Сан-сон, — и, если это в моих силах, я с радостью отвечу.
— Мне хотелось узнать, как долго теплится жизнь в обезглавленном теле; мнения вашего отца на сей счет мне уже не услышать, но, быть может, я буду иметь честь познакомиться с вашей точкой зрения?
— Сударь, — отвечал Сансон, — об этом надо спрашивать не у нас: мы только отпускаем веревку, удерживающую лезвие, — а у наших помощников. Если вам угодно, я позову того из них, кто, как мне кажется, обладает интересующими вас сведениями.
Доктор кивнул в знак согласия.
Сансон подошел к окну и подозвал толстого, жизнерадостного, краснощекого парня, который как раз завтракал куском хлеба с сосиской, сидя на помосте у подножия гильотины.
Подняв голову и увидев, кто его зовет, парень тотчас спрыгнул на землю и взбежал на второй этаж гостиницы «Нант», где его ожидали Жак Мере и Сансон-младший.
— Легро, — спросил палач у своего помощника, — ты ведь узнаешь этого господина, не так ли?
— Еще бы мне его не узнать, гражданин Сансон; это он вчера выпрыгнул из окошка, чтобы помочь твоему батюшке, а сегодня я спрыгнул с помоста на землю, чтобы узнать у тебя, какая во мне надобность.
— Не угодно ли вам, сударь, самолично задать этому юноше вопрос, который вас волнует? — спросил Сансон.
— Я хотел узнать у тебя, гражданин Легро, — сказал Жак Мере, пользуясь принятым в ту пору обращением, — веришь ли ты, что в обезглавленном теле продолжает теплиться жизнь?
Легро взглянул на доктора с недоуменным видом.
— Теплится жизнь? — переспросил он. — Это как же понимать?
— А вот как: меня интересует, веришь ли ты, что обе части казненного — тело и голова — продолжают испытывать боль?
— Смотри-ка! — воскликнул Легро. — Ты меня спрашиваешь точно о том же самом, о чем уже спрашивал гражданин Марат. Ты знаешь гражданина Марата?
— Нет, я о нем только слышал. Я уехал из Парижа десять лет назад, а вернулся только вчера.
— Гражданин Марат — человек что надо! Будь у нас хоть десяток таких, как он, мы бы в три месяца разбили всех врагов Революции.
— Еще бы! — подтвердил Сансон. — Вчера он потребовал казнить двести девяносто три тысячи человек!
— И что же ты ответил гражданину Марату, когда он задал тебе тот же вопрос, что и я? — осведомился Жак Мере.
— Я ему ответил, что насчет тела наверное ничего не скажу, а голова-то точно мучается.
— Ты полагаешь, что голова, отделенная от тела, продолжает ощущать боль?
— Еще бы! Ты что же думаешь, когда мы этим аристократам отрубаем голову, они и впрямь тут же умирают? Слушай, мы сегодня казним троих; это немного; корзина у меня совсем новая — хочешь я тебе ее завтра покажу! Увидишь сам, они изгрызут зубами все дно.
— Возможно, это результат машинального действия, последней нервической судороги, — произнес доктор, как бы размышляя вслух и не теряя хладнокровия, хотя яркие выражения, в которых помощник палача Легро описывал последствия казни, потрясли его до глубины души.
Помолчав, он обратился к Сансону:
— Я полагаю, сударь, что есть более надежный способ проверить, как обстоит дело; если вам самому претят подобные изыскания, позвольте этому доброму малому, который, кажется, не страдает излишней чувствительностью, произвести опыт вместо вас. Как только голова отделится от тела, пусть он поднимет ее за волосы и крикнет ей в ухо имя казненного. По глазам мы поймем, слышала нас голова или нет.
— Только и всего? — воскликнул Легро. — Ну, это нетрудно.
— Сударь, — сказал Сансон, — чтобы доставить вам удовольствие и доказать вам свою признательность, я произведу опыт собственноручно и нынче вечером запиской извещу вас о полученном результате.
В этот миг беседу наших героев прервал пушечный выстрел, возвестивший начало поминовения павших.
Как мы помним, оно было назначено на 27 августа.
Подобного рода торжествами командовал обычно один из членов Коммуны, по фамилии Сержан.
По профессии гравер и рисовальщик, он был подлинным мастером в искусстве другого рода — в искусстве устраивать революционные празднества; неумеренный патриотизм служил ему неисчерпаемым источником мрачного, угрюмого, блистательного вдохновения, вполне отвечавшего духу тех событий, в честь которых устраивались торжества и церемонии.
Именно Сержан, узнав о бедственном положении армии, объявил 22 июля 1792 года: «Отечество в опасности!».
Именно ему месяц спустя, 27 августа того же года, было поручено устроить грандиозное шествие в память о погибших.
В центре самого большого тюильрийского пруда установили гигантскую пирамиду, покрытую черной саржей.
На ней красными буквами написали названия мест, где произошли массовые убийства, в которых, как известно, обвиняли роялистов: Нанси, Ним, Монтобан, Марсово поле.
Гильотину потому и не убрали с площади, что она призвана была составлять пару этой пирамиде.
Вдобавок на 27 августа назначили три казни — это входило в программу церемонии.
В одиннадцать часов утра из здания ратуши, где заседала Парижская Коммуна, вышли в облаке ладана и благовоний, достойных афинской улицы Треножников, вдовы и сироты, потерявшие родных 10 августа; они были одеты в белые платья, перетянутые в талии, и несли в ковчеге, изготовленном по образцу ковчега Завета, ту знаменитую петицию 17 июля 1791 года, в которой высказывалась просьба об установлении во Франции республики — просьба в ту пору преждевременная, но спустя год исполнившаяся, как исполняется все, чему суждено свершиться.