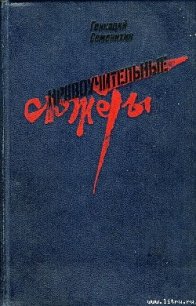Полонянин - Гончаров Олег (чтение книг TXT) 📗
– Кто же это тебя так, милай? – это ключница меня окликнула.
Старушка сухонькая, маленькая, нос крючком, седая прядь из-под покрова небогатого торчит, голос скрипучий, на лицо мое избитое показывает.
– Вороги злые, бабушка, – отвечаю.
– А с ногой что?
– Это копьем его, – вместо меня ответила Малуша.
– Ох-ох-ох, – вздохнула старушка, – ну кондыляй за мной. Мне княгиня велела вам хоромину выделить. А где я вам жилье отдельное возьму, – ворчала она. – Легко ей распоряжаться, а я вынь да положь. А что вынь? Что положь? Это ее не касается. Крутишься тут, как вошь на гребешке, и никакого за то благодарения…
Ворчливая ключница нас с Малушей, по Ольгиному велению, в отдельную от других холопов клеть вселила. Невелики хоромы оказались, как раз под лестницей в терем княжеский. Пять шагов в длину, три в ширину, два лежака по стенам, сенцы крошечные – двоим не разойтись. Окошко маленькое, бычьим пузырем затянутое, а под ним скрыня дубовая, да свято Перуна на стене намалевано – вот и все убранство нашего нового жилища. Даже печки нет.
– Это ты не переживай, – скрипела ключница. – За стенкой поварня. День и ночь печи горят. Здесь и зимой жарко. До вас тут малевалыщик-худог жил с подмастерьем, они горницу в тереме подрядились размалевывать. Вишь, – кивнула она на свято, – их трудами лик Покровителя на стене появился. Так те даже в лютые морозы с открытой дверью спали. Не любил старик жару. От жары и помер. Горячка его прожарила, а подмастерье сбег. А что стены мелятся, так я вам рогожки принесу, вы и завесите. Снедают у нас в полдень и на закате. Как в било ударят, так вы к левому крыльцу идите. Там у нас трапезная. Пока вас княгиня в работу не определила, вы тут побудете, обживетесь, а я побегу ратникам исподнее готовить, после бани выдам. – И ушла.
– Ну, что, Малуша? – сказал я сестренке. – Не терем Ольговичский, но жить можно.
– Девчонок тамошних жалко, – вздохнула сестра, – скучаю я по ним. Как они там на пепелище?
– Ничего, – взъерошил я ей волосы, – еще свидитесь.
– Косу-то не лохмать, – отпихнула она мою руку и достала гребень, Ольгой подаренный.
– Добрый, ты тут? – из сенец голос знакомый раздался.
Мужичок в проеме дверном появился. Вгляделся я, мама родная!
– Кот?!
– Он самый, – улыбнулся конюх. – Я как прознал, что ты в Вышгороде объявился, так сразу к тебе поспешил. А ты, я вижу, только из драки вылез?
– Кот, – обнялись мы крепко. – Сам-то ты как здесь?
– Да, – махнул он рукой, – старшим конюшим я теперь. Не хотел с Кветаном расставаться, да пришлось. А это Малуша? Выросла как! Помнишь меня, девка красная?
– Не-а, – сестренка головой покачала.
– А тогда, зимой, мы же с Добрыном заезжали.
– Много вас тогда было, – распустила косу Малуша да принялась расчесываться, – разве упомнишь всех?
– Таких, как я, помнить надобно, – засмеялся Кот. – Вот подрастешь чуток, так я к тебе сватов зашлю.
– Больно ты мне такой нужен, – рассмеялась в ответ сестренка. – Где это видано, чтоб княжна за конюха пошла?
– Ого, – удивился Кот, – а девчонка с гонором!
– А ты как думал? – сказал я ему.
– Добрый! – опять меня кто-то зовет.
– Кто там? – крикнул я в дверь.
– Княгиня велела тебе к ней в горницу подняться. Немедля.
– Иду! Прости, друже. – Я к Коту повернулся.
– Поспешай, – кивнул тот, – ввечеру свидимся.
Горница в тереме просторной была. Красивой и яркой. Постарался худог, ее расписывая. В центре стол огромный, вдоль стола лавки резные. По стенам оружие развешано: щиты черевчатые, мечи да топоры, копья да луки. А между ними звери диковинные намалеваны, по потолку птицы сказочные, по колоннам витым деревья в цвету. Аж в глазах зарябило.
– Устроила вас ключница?
– Да, княгиня. – Я ее среди пестроты этой и не заметил сразу.
– Довольны вы? – подошла она поближе.
– Довольны, недовольны, – пожал я плечами, – и тому, что есть, рады.
– Хорошо. Проходи. За стол присядь. Есть хочешь?
– Нет, княгиня.
– Ладно уж, – улыбнулась она, – небось, оголодал с дороги-то?
– Правда не хочу.
– Ну, как знаешь.
– Звала-то зачем? Или придумала, к какой работе пристроить нас?
– Спросить хотела, – взглянула она мне в глаза.
– Так спрашивай, – выдержал я ее взгляд, а она вдруг потупилась, платочек шелковый к груди подняла, словно защищаясь.
– О чем ты с Андреем говорил?
– А он тебе разве не докладывал?
– Нет, – вздохнула она. – И сказал, чтоб тебя после смерти его не пытала.
– Почему же ослушалась? – удивился я.
– Не знаю, – вдруг напряглась она, платочек пальцами затеребила, отвернулась. – Ступай, – сказала.
Я уж у дверей был, когда остановила она меня:
– Постой! – замер я от этого окрика, а она мне вслед смотрит и говорит: – Андрей наказ дал, чтоб тебя звала, коли большая нужда приключится, а придешь ли ты на выручку? – А глаза у самой, точно у кошки побитой.
Горько мне за нее стало. Ведь прав был рыбак – со всех сторон ее рвут, а она не поддается. Гнется, как березка под ветром, но не ломается. И опереться ей не на кого, и некому плечо ей подставить. Оттого и дичится всех, робеет кому-либо довериться. Ан доверие ее за слабость примут?
– А разве нужду в чем испытываешь? – спросил. Помолчала она, точно с мыслями собираясь.
– Пока нет, – ответила. – А вдруг беда случится? Что тогда?
– Не хочу лукавить, – сказал я, – и назвать тебя радостью великой не могу. Ты вотчину мою порушила, отца полонила, нашу с сестренкой жизнь искурочила. Волю нашу злой неволей подменила. Я холоп теперь, а ты хозяйка. Отчего же холопа бесправного ты о подмоге просишь?
– Коль я такая плохая, зачем же ты меня из полыньи вытащил? Под лед бы меня затянуло вслед за тем охотником, вот и радость тебе была бы. Ты же бежал тогда. Знаю, что бежал. Почему же вернулся?
– Не знаю! – разозлился я. – До сих пор понять не могу. Может, пожалел тебя…
– Пожалел, значит? – ухмыльнулась она.
– Не хозяйку пожалел, не княгиню, а бабу глупую, да чадо ее, которое круглой сиротой останется. А может, себя жалко стало. Понял, что спокойно жить потом не смогу, вот на выручку и кинулся.
– Так, выходит, ты меня дурой считаешь, а себя праведником совестливым? – тут уж она взбеленилась.
– А не была бы ты дурой, пошла бы за отца, – сказал я спокойно. – И не пришлось бы земли в горе топить, а потом от своего же народа за стенами вышгородскими хорониться, да у меня защиты искать.
– Да как ты смеешь, холоп?! – крикнула она зло, платочек свой пополам порвала да обрывки прочь откинула.
– Смею, – усмехнулся я, повернулся и к двери похромал.
Руку на притвор положил и вдруг услышал, как железо за спиной лязгнуло. Обернулся быстро, вижу: Ольга меч со стены сорвала да на меня кинулась. Глаза у нее словно угли горят, рот в гневе перекосило, рычит по-звериному. Видно, крепко ее задел, и спуску она мне давать не намерена.
Перехватил я ее руку, для удара занесенную, отобрал меч, в сторону отшвырнул. Звякнул клинок об пол. Я княгиню к стенке прижал, а она вырывается, укусить меня хочет, ногтями глаза выцарапать.
– Вот такая, – говорю ей тихонько, – ты мне больше нравишься. А то рыбака наслушалась, нюни распустила.
– Ненавижу тебя! – она шипит. – Ненавижу!
– Думаешь, я тебя люблю? – я ей в ответ. – Вот только отец мой сам договор печатью скрепил, сам я от княжества Древлянского отказался, сам меч родовой сломал. И клятву свою нарушать не намерен. Значит, до поры буду холопом тебе верным, и если надо будет, костьми за тебя лягу. А когда мое холопство кончится, вот тогда и поговорим. – И руки ее отпустил.
А она мне шею руками этими обвила, притянула к себе и лицо мое, дулебами измолоченное, целовать жарко стала. Губы мои избитые своими губами нашла. Поморщился я от боли и на поцелуй ее ответил.
Так и случилось у нас.
Без любви.
Зло.
Вперемежку с кровью из шрама не затянувшегося. Словно и вправду Блуд нас стрелою своей пронзил. Как тогда. Зимой. В лесу заснеженном. В берлоге простылой, а может, и еще горячее…