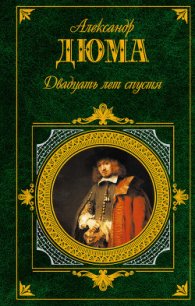Инженю - Дюма Александр (книги полностью бесплатно .TXT) 📗
— Уф! — вздохнул Дантон, пододвигая свой стул ближе к Марату. — Это становится интересным, роман завязывается: Люсиль должна полюбить молодого Потоцкого.
— Вы так думаете? — с горечью спросил Марат.
— По-моему, я предчувствую сентиментального Сен-Прё и прекрасную Юлию.
— Терпение, дорогой друг, терпение, вы получите гораздо больше, уверяю вас: пообещав яйцо, я всегда даю курицу.
— Неужели из-за превратностей фортуны мы вместо Сен-Прё и Юлии получим Элоизу и Абеляра?
— О нет, не совсем! Черт возьми, вы торопитесь!
— Я не тороплюсь, а слушаю; правда, интерес к тому, в чем вы рассказываете, порождает в моем уме изумление, а изумление — догадки.
— Догадываетесь вы или нет, я продолжаю.
— А я жду.
— Я умолчу о моем удивлении во время знакомства, что состоялось в тот же вечер; обманутый, как и вы, я рассчитывал увидеть ученика, а не ученицу; обойду молчанием краску смущения на моем лице, дрожь волнения, мою неловкость; ничего не скажу о стыде молодого человека, когда я увидел, коснувшись своего жалкого одеяния философа, парадное бархатное платье и куньи меха Цецилии.
— Вот оно что! Ее звали Цецилия, а я думал, что Люсиль!
— Ее зовут Люсиль в романе, но в жизни ее имя Цецилия. Кстати, Цецилией звали и знаменитую королеву Польши, но королева эта, Дантон, никогда не выглядела столь величественно, как девушка, которой меня представил граф, давая ее мне в ученицы, а меня ей — в учителя!
XIII. ЦЕЦИЛИЯ ОБИНЬСКАЯ
— Краска смущения, дрожь волнения, ложный стыд, — все это было пустяком, и меня ждало нечто гораздо более серьезное! Представив меня, граф прибавил: «Цецилия, этот ученый француз будет преподавать вам французский, английский, точные науки… Он пробудет здесь год, а через год вы будете знать все, что знает он». Я не сводил с него глаз, пытаясь угадать, почему он так дурно судит обо мне, по невежеству или из предвзятости. «О, я понимаю…» — пролепетал я.
Я понял, что граф так говорил обо мне вовсе не из-за невежества и что, наоборот, он обладает очень тонким умом. Помолчав, он сказал: «Не удивляйтесь, милостивый государь, если я говорю, что через год Цецилия будет знать все, что знаете вы, — я утверждаю это потому, что мне известны ее способности и ее память; у нее такие дарования, с которыми ваши сравниться не смогут… Только учите ее, и вы убедитесь, как быстро она все усвоит…» Я поклонился. «Ваша светлость, Боже меня сохрани сомневаться в способностях мадемуазель Обиньской, — почтительно ответил я, — но, в конце концов, чтобы преподать ей все эти предметы, мне будет необходимо физическое время».
«Хорошо! — согласился он. — Я дал вам год… Так вот, весь год она будет с вами или, вернее, вы не будете расставаться с нею, поэтому на самом деле вы отдадите ей все то время, что во Франции посвятили бы любому ученику за шесть лет. У вас там девушки появляются в обществе, при дворе — я был в Париже, знаю, — и принимают у себя; час в день они посвящают расширению кругозора, а остальное время отдают пустякам… У нас, наоборот, графиня Обиньская будет тратить на занятия двенадцать часов».
«Позволит ли мне ваша светлость сделать одно замечание?»
«Да, разумеется… Пожалуйста!»
«Двенадцать часов занятий в день — это много, и мадемуазель не выдержит!»
«Хорошо, — улыбнулся граф (ибо иногда он все-таки улыбался), — не вынуждайте меня учить вас вашему ремеслу… Конечно, доктор, вы правы, и двенадцать часов погубят лучший мозг, если заниматься без перерыва и не разнообразить занятия. Но поскольку здесь каждое утро вы будете два часа ездить верхом с графиней; поскольку затем будете завтракать вместе с ней; поскольку до полудня вы будете уединяться с ней, чтобы заниматься письмом или счетом на грифельной доске; поскольку в полдень вы будете выезжать на прогулку в ее карете, — в карете ведь беседуют, не правда ли? — а за обедом, на приемах и охотах, вечерами будете неотлучно находиться при Цецилии и вести с ней разговоры; поскольку, наконец, вы не будете отходить от нее ни на шаг, — то я отнюдь не преувеличил свой расчет, назначив вам двенадцать полных часов занятий в день».
По мере того как граф говорил, мне казалось, будто я слышу слова гения снов; по мере того как он объяснял этот план воспитания, мне казалось, будто перед моими глазами проплывает одна из тех чарующих картин волшебного рая, которые с помощью гашиша Горный старец показывал своим уснувшим последователям. Меня одолевало такое множество мыслей, что я не мог ничего ответить.
Но тем не менее я испытывал столь сильное желание говорить, что судорожно сжал руки и ноги, чтобы не шевелиться, вернее, не сделать движения, которое разбудило бы меня. Я считал, что вижу сон.
Все время этой пленительной галлюцинации Цецилия смотрела на меня спокойным и холодным взглядом, но столь пристальным, что воспоминание о нем даже сегодня, по прошествии семнадцати лет, пронзает мне сердце, словно незримая слеза, оброненная на меня невидимым демоном.
Высокая, стройная, с золотистыми, как зрелые колосья, густыми волосами, с голубыми, глубокими, словно воды наших озер, глазами, она прятала округлые руки в рукавах меховой венгерки и ни разу не разжала губ, поэтому я смотрел на нее так, как мы смотрим на задрапированную статую. Поскольку я не помню, как она появилась в зале и не заметил, как она села рядом с отцом, а ничто в ней, даже ее длинные ресницы, не дрогнуло, я был вправе думать, что человекоподобная фигура, находившаяся передо мной, просто одна из тех икон-покровительниц, которые польские сеньоры вешают в своих замках или помещают под колпаками своих каминов — так в древности поступали римляне со своими ларами — и которые молчаливо оберегают семью и домашний очаг.
Отец, говоривший так много и так странно, дочь, смотревшая так пристально и почти безмолвно, — все это производило на меня удивительное впечатление, какое я объяснить не могу, хотя сам пишу романы. Может быть, вам удастся это понять?
— Черт возьми! Если бы я это понимал, то поверил бы! — вскричал Дантон. — Но продолжайте, дорогой мой, я нисколько не сомневался, что все эти фамилии на -ский и на -ска способны фигурировать в столь интересных историях… Ведь в «Фобласе» Луве де Кувре у нас есть некая Лодойска… Вы читали «Фоблас»?
— Нет, — ответил Марат. — Я не читаю непристойных книг.
— Вы считаете «Фоблас» непристойным? — удивился Дантон. — Да вы, черт побери, ригорист! Я считаю «Фоб-ласа» не более непристойным, чем «Новая Элоиза».
— Послушайте! Не будем кощунствовать! — побледнев, воскликнул Марат.
— Да, вы правы: речь идет не о Фобласе, Лодойске или новой Элоизе — мы ведь говорим о вас, о жизни, а не о романе. Продолжайте, пожалуйста… И простите меня за то, что я вас прервал.
— Мое удивление было столь велико, — продолжал свой рассказ Марат, — или, лучше сказать, я был так потрясен, что в какое-то мгновение голова у меня закружилась и рассудок совершенно помутился. За это время меня привели — кто, совсем не помню; как, не знаю — в большую комнату, где я почти пришел в себя и оказался в окружении вежливых, улыбающихся слуг; они показывали мне на удобную постель и обильный ужин.
— Поистине, мой дорогой друг, хотя я обещал вам и себе не перебивать вас, — сказал Дантон, — не могу не поддаться желанию заметить, что невозможно начать переживать феерию более приятным образом; именно так начинаются все арабские сказки, поэтому, само собой разумеется, вы, я надеюсь, воздали должное ужину и постели.
— Поужинал я очень хорошо, — ответил Марат, — но спал довольно плохо: после долгой телесной усталости, после сильных умственных потрясений отдых нервному человеку дается с трудом. Мне это не давалось в особенности, ибо у меня была двойная причина плохо спать: тело ломило от усталости, голова ничего не соображала; однако мне приснился сон — он был неким подобием экстаза. Мадемуазель Обиньская магнетизировала меня своими большими, широко раскрытыми глазами и своей молчаливой неподвижностью.